На написание этих путевых заметок меня вдохновил снимок крымского Аю-Дага, попавший на глаза в Интернете. Известная всем гора, которая находится неподалеку от Гурзуфа, снята с необычного ракурса – сверху со стороны моря, с высоты полета орла. Или украинского дрона-разведчика: Аю-Даг-то с 2014 года, как и весь Крым, под рашистской оккупацией пребывает. А вот воспоминания оккупировать нельзя. Их никто отнять не может. Ими я и решил поделиться. Потому что крымский медвежий угол, место, где гигантский медведь пытается выпить Черное море, мне знаком не понаслышке. В 1999 году я жил у подножия Аю-Дага, исходил там всю округу, несколько раз поднимался на вершину горы.
Она очаровывает красотой и захватывает дух высотой. И неприступностью: подняться на вершину можно только с одной стороны – со стороны ялтинской трассы. В остальных местах – либо осыпи, либо скалы, обрывающиеся в море. Кстати, поднявшийся в 1825 году на Аю-Даг польский поэт Адам Мицкевич так передал свои впечатления от увиденного (в сборнике «Крымские сонеты»):
«Lubię poglądać wsparty na Judahu skale,
Jak spienione bałwany to w czarne szeregi
Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi
W milijonowych tęczach kołują wspaniale».
Или в переводе: «Взойдя на Аю-Даг и опершись о скалы, Я созерцать люблю стремительный набег Волн расходившихся и серебристый снег, Что окаймляет их гремящие обвалы».
Трудно не очароваться этим не сформировавшимся вулканом. Не потухшим, как крымский Кара-Даг, а именно не сформировавшимся: магма когда-то там поднялась из недр земли, но на поверхность так и не вышла. А название его в Крыму услышать можно на нескольких языках. Но об этом – отдельно. Пока мы к Адаму Мицкевичу вернемся. При первом прочтении его сонета меня удивило… орлиное зрение поэта: невозможно разглядеть «снег валов» морских с 570-метровой высоты Аю-Дага.
И всякий раз можно заметить мельчайшие изменения в природе. Вот море посветлело, заиграло на солнце, в его лучах вспыхнули словно озаренные внутренним светом острова - Адалары. А вот облака столь причудливые формы приняли, что даже пошевельнуться боишься, чтобы не спугнуть красоту эту. А только-только стоит солнцу скрыться, как цвет моря резко меняется. Темнеет оно, словно суровеет, лишь бирюзовая дорожка - от прорвавшегося сквозь краешек облака лучика бежит к Адаларам, а потом, перемахнув через них, расширяясь постепенно, уносится дальше, дальше... до самой Турции.
В Гурзуф Мицкевич наведался в июне 1825 года, но остановился не в городе, а в имении отставного киевского губернского предводителя дворянства, поэта со скромными поэтическими способностями Густава Олизара «Кардиатрикон» («излечение сердца» по-нашему), раскинувшемся у подножия Аю-Дага, на берегу реки Артек. Вот вам названия вулкана-неудачника: и «Аю» и «Артек» (точнее – арктос) значат одно и то же - медведь. И Гурзуф (урсус) - это тоже медведь. «Кардиатрикон» Густав Олизар купил поздней осенью 1824 года, поразившись цветущим в урочище (накануне зимы!) шиповником. Окрестности Аю-Дага в те времена были почти не обитаемы. Только на берегу моря, рядом с маслиновой рощей, скромный домик на возвышении белел. Можно предположить, что Адам Мицкевич интересовался у хозяина урочища, кто обитает в нем, и, что не исключено, видел хозяйку домика.
Не знаю, что он услышал в ответ, но уверен: заинтересуйся ей поэт и мир, возможно, лет на сорок раньше узнал бы о похождениях трех мушкетеров - в изложении классика польской литературы Адама Мицкевича - в начале 20-х годов позапрошлого столетия домиком у Аю-Дага владела графиня Жанна де Ла Мотт, известная как миледи из «Трех мушкетеров» Александра Дюма.
У сведущих людей в Гурзуфе я выпытал о ней следующее. Родилась Жанна в 1756 году. В молодости судьба ее свела с кардиналом Страсбургским Луи де Роганом, а через него - со знаменитым «магом и волшебником» графом Калиостро. Кардинал был близок к королевскому двору, но однажды имел неосторожность непочтительно отозваться о матери королевы, и впал в немилость. Тут-то и вмешалась графиня-авантюристка, передавшая кардиналу «просьбу» королевы стать посредником в сделке с ювелирами, изготовившими по заказу покойного Людовика XV бриллиантовое ожерелье - для любовницы умершего короля. Как объяснила графиня, королева якобы намерена приобрести ожерелье тайно от супруга - Людовика XVI, и собирается преподнести ему сюрприз: надеть ожерелье в день своего рождения.
Луи де Роган с радостью и готовностью принял «просьбу» королевы. Однако в день рождения та появилась в свете, естественно, без ожерелья. Жанна тут же успокоила кардинала, заявив, что королева решила надеть бесценное украшение лишь после того, как полностью рассчитается за него. Развязкой авантюры стали публичная порка миледи, после чего палач заклеймил ее плечо буквой «V» - voleuse («воровка»), и препровождение в тюрьму на пожизненное заключение. Таким клеймом, напомню, «vеткой» (по аналогии с меткой), клеймили свою технику вторгшиеся в Украину 24 февраля 2022 года рашисты. Они таким образом выдавали себя – свои воровские намерения.
В тюрьме графиня, однако, долго не задержалась: через год с помощью друзей бежала в Лондон, но погулять на свободе ей довелось недолго: в книге Ламбертской церкви за 1791 год появилась запись о трагической гибели и погребении Жанны де Ла Мотт. Александр Дюма, конечно, знал эту историю. Знал и мастерски изложил ее в бессмертных «Трех мушкетерах». Не догадывался писатель о другом. О том, что графиня... сымитировала свою смерть и, захватив ожерелье, перебралась в Россию и даже была принята императором Александром Первым. Он и порекомендовал ей убраться из столицы подальше. И графиня объявилась в Крыму, обосновавшись в небольшом домике на берегу моря, у самого подножия Аю-Дага. Говорят, обычно она ходила в зеленом полумужской камзоле, за поясом которого всегда была пара пистолетов. Еще мне рассказывали, что в окрестностях Аю-Дага нередко появлялись контрабандисты, щедро делившиеся своей добычей с графиней-авантюристкой.
Я прикладывал однажды ухо к запертой двери домика миледи, но, увы, ни тихой французской речи, ни приглушенного временем звона шпаг не услышал. Только море за моей спиной тихо шелестело, накатываясь неспешными волнами на берег. И каменистый могучий медведь-урсус все так же жадно пил соленую морскую воду, как и во времена миледи. Кстати, в ее домике в двадцатых годах двадцатого столетия жил основатель детского лагеря «Артек» Зиновий Соловьев. А я в конце двадцатого столетия работал в пресс-службе «Артека».
По-настоящему, а не понарошку, умерла Жанна де Ла Мотт в 1826 году и похоронена была (почему-то) в Старом Крыму. А в 1918 году офицеры-австрияки, пришедшие в Крым с германскими оккупационными войсками, пытались отыскать ее могилу. Предполагали (и, вполне вероятно, небезосновательно), что ожерелье королевы она забрала с собой на тот свет.
Октябрь 2025 года
*
Гора Аю-Даг, вид сверху со стороны Черного моря
Восстановленный нейросетями графический портрет графини Жанны де Ла Мотт в молодости

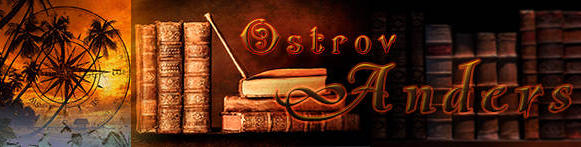
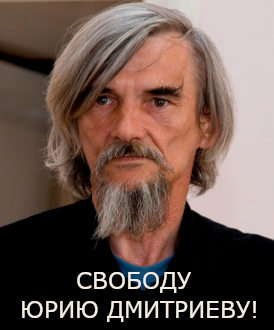
 EN
EN Старый сайт
Старый сайт
 Самойлов Борис
Самойлов Борис  Голод Аркадий
Голод Аркадий  Тубольцев Юрий
Тубольцев Юрий  Буторин Николай
Буторин Николай  Андерс Валерия
Андерс Валерия 
