 Как-то раз мне позвонила подруга и предложила встретиться.
Как-то раз мне позвонила подруга и предложила встретиться.
— Пойдём в наше кафе? — сказала Аделя. — У них сегодня в меню вишнёвый штрудель. Посидим, пообщаемся. А ещё у меня к тебе есть одно дело.
Кофе был ароматным, штрудель — с тонкой корочкой. Уютно устроившись за столиком у окна, мы, некоторое время, говорили обо всём — о том, что нас тревожило и радовало, а потом, после обычных разговоров между подругами, Аделя достала из сумки тетрадь и положила передо мной.
— Это тетрадь моего папы, — тихо сказала она. — В ней он описал свою жизнь. Папе хотелось, чтобы то, о чём он рассказал, стало достоянием не только нашей семьи и сохранилось в нашей памяти, а было прочитано и другими. Он надеялся, что эти записи помогут лучше понять те, страшные и тревожные времена. Я подумала: вдруг тебе будет интересно? Может, ты захочешь написать рассказ о моём отце.
Я с трепетом взяла тетрадь — ведь это было не просто живое свидетельство жизни одного человека, его надежд, борьбы, страданий, любви и мыслей, но и история целой эпохи, оставившая яркий след, до сих пор волнующая умы историков и писателей.
Рассказ Иоганна Пфайфле.
В жизни бывают иногда такие удивительные и, порой, неожиданные повороты судьбы, что даже трудно поверить, как такое вообще могло произойти.
Я обыкновенный немецкий мальчик, родился в 1927 году на севере Германии, в городке Нойбукове, всего в нескольких километрах от Балтийского моря. Ветер приносил с побережья солёный запах и мечты о далёких странствиях. Городок был маленький, тихий, с узкими улочками, вымощенными брусчаткой, и аккуратными домами с крутыми черепичными крышами. В центре города стояла старинная церковь с высоким шпилем, которую было видно с любого холма вокруг. По утрам в городке пахло свежеиспечённым хлебом из пекарни на углу Церковной и Ярмарочной улиц, а по вечерам — дымом из каминов. Дети гоняли мяч по мостовой, старики сидели у порогов домов, неторопливо переговариваясь о погоде, ценах на рынке. Люди здесь знали друг друга по именам, жизнь казалась спокойной и мирной — в размеренном, упорядоченном течении будней.
А я мечтал стать археологом. Хотел быть таким же знаменитым, как Генрих Шлиман — тот самый Шлиман, который родился в нашем Нойбукове и прославился раскопками легендарной Трои. Я был уверен: моя жизнь непременно будет связана с древностями, с историей, и, однажды, моё имя узнают так же, как имя Шлимана.
С увлечением я рассматривал старинные карты, перерисовывал в тетрадки загадочные письмена и изучал языки по методу Шлимана. Английский, французский, латинский, греческий - я учился с лёгкостью, с азартом, будто каждый новый язык приближал меня к разгадке какой-то великой тайны.
Мама складывала мои исписанные тетради в ящик комода и говорила: "Когда ты станешь известный всему миру, я буду тобой гордиться и перечитывать эти твои записи". И я верил ей.
В 1933 году к власти пришёл Гитлер, и ветер перемен в жизни нашего общества сменил направление, развевая по улицам совсем другие флаги. Красные знамёна с белым кругом и чёрной свастикой в центре теперь были повсюду. Народ собирался на площади и слушал пламенные речи ораторов о возрождении Германии, призывы к единению и вере в величие нации.
В моей школе повесили большой портрет Гитлера. У наших учителей стали часто повторяться слова: "наш фюрер". Это потому, что для всей страны Гитлер уже воспринимался не просто как лидер — он был отцом, символом нации, почти сакральной фигурой.
На уроках истории многое изменилось: нам рассказывали о величии германского народа, о его древних корнях и об особом пути.
1 сентября 1939 года я запомнил хорошо, потому что занятия в школе начались иначе, чем обычно: когда прозвенел звонок и мы расселись по своим местам - учитель включил радио. Выступал Гитлер. Он объявил, что Польша, нарушив наши границы, совершила вооружённое нападение.
- С этого утра стреляют. С 5:45 отвечаем на выстрелы! - говорил фюрер резким голосом, полным решимости. Ещё он добавил, что мы долго терпели провокации и пытались найти мирное решение, однако польская сторона отвергла все предложения, не оставив нам выбора.
- Германия не желает войны, но, если она неизбежна — мы дадим отпор, — звучало из радиоприёмника.
В те дни Гитлеру верили почти все. На улицах, в пивных, на лавочках в парке говорили только одно:
— Наш фюрер прав. Версальский договор унизил страну, и мы обязаны вернуть себе место среди великих держав. Англичане и евреи мешают нам подняться с колен, а Польша сама виновата — значит, война справедливая. Мы забираем своё.
Мои родители думали так же.
— Польша будет наша за неделю, ну, максимум — за две, — уверенно говорил отец. — Верхняя Силезия и западные земли всегда были немецкими, и мы просто исправляем историческую несправедливость. Фюрер уже столько вернул Германии — работу, гордость, Рейнскую зону, Судеты, Австрию. Значит, и теперь всё будет быстро.
Конечно, и я тогда желал победы своему народу.
1941 год стал для нашей семьи важным, можно сказать переломным.
В апреле мобилизовали отца в армию, объясняя это регулярными сборами резервистов на ученья.
Мама страшно переживала. Ей хотелось верить, что это именно так и папа скоро вернётся домой. Но многие наши знакомые, работающие в соседнем городке Бад - Доберане, рассказывали, что видели, как через этот город день и ночь идут военные эшелоны на восток. А в порту Ростока — на платформы грузят танки. Да я и сам не раз наблюдал проходящие мимо нашего Нойбукова колонны мотоциклистов, у которых боковые коляски были затянуты брезентом.
— Марта, — сказал отец на прощание, — ты знаешь, я верю Гитлеру. Если он решил укреплять восток, значит, так и должно быть. Я не политик, и не разбираюсь в ней, но обязан защитить свою страну и нашу семью.
А 22 июня вечером по радио выступил фюрер. Его голос звучал сдержанно и хрипло, без привычной ярости. Он говорил как защитник, а не как агрессор, стараясь внушить: Германия вынуждена действовать ради своей безопасности.
- Мы поднимаем оружие не против народов Советского Союза, а против тех, кто на протяжении десятилетий держит их в рабстве. Большевизм — это чума, которая стремится уничтожить не только Германию, но и всю Европу. Мы идём туда, чтобы освободить эти народы от террора коммунистической диктатуры, от бесправия и насилия. Это борьба за будущее Рейха, за сохранение западной цивилизации, за культуру, порядок и свободу.
После таких речей, большинство немцев восприняли новость о нападении Германии на СССР, как необходимую меру обороны, особенно после официального заявления Гитлера, что Советский Союз готовился нанести удар первым. Германия лишь опередила планы Сталина.
Для нас, обычных немцев, это звучало очень убедительно: мы защищаемся и боремся за своё будущее.
Когда началась массовая мобилизация, мама, с тревогой в душе, решила узнать, где сейчас папа. В военно-учётном бюро ей ответили, что он уже переброшен на Восточный фронт и выполняет важную задачу — защищает нашу Родину, и что мы можем им гордиться.
Я запомнил некоторые отрывки из писем отца с фронта, которые он нам присылал: "Здесь, на востоке, я особенно чувствую, что делаю нечто большее, чем просто выполняю приказ. Это борьба за нашу Родину, за наш дом, за наших детей. Советский Союз — опасный враг, который хочет разорить наш народ и уничтожить всё, что нам дорого. Мы сражаемся с угрозой коммунизма, которая, если бы дошла до наших границ, поглотила всё светлое и живое. Я стараюсь быть сильным ради вас. Вы — моя опора, моя вера. И пусть эта война закончится скорей, чтобы мы снова собрались вместе".
29 июня мне исполнилось 14 лет и я, как все мои ровесники, вступил в организацию Гитлерюгенд. Там нас учили военной дисциплине, маршировать, петь патриотические песни, воспевая нашу страну. Рассказывали о высоких идеалах, которые мы должны были поддерживать.
— Вы, будущее нации, — говорил руководитель, — вы одно целое с народом, потому что у нас одна страна, один фюрер, одна судьба.
В ответ на эти слова мы, с рвением и преданностью, ударяли каблуками о брусчатку, гордясь тем, что родились в великой Германии.
В один из прохладных мартовских дней 1943 года мама вернулась из военно-учётного бюро с листом бумаги в руках. Она вошла в дом и, не раздеваясь, села на край стула. Несколько минут просто смотрела в одну точку. Губы её дрожали.
— Пропал без вести... под Сталинградом, — прошептала она, подняв на меня глаза, полные слёз. — Но это ведь не погиб? Значит, есть надежда, что он живой?
Я сразу понял, что речь идёт об отце. Мне было пятнадцать лет, и я считал себя взрослым, но в этот момент я заплакал, как ребёнок, потому что, вдруг, почувствовал, что больше никогда не увижу его – своего папу. Глядя на меня, заплакал и Густав - мой младший брат.
Война, казавшаяся такой далёкой, теперь коснулась и нашего дома.
Да, война, которую нам обещали, как блицкриг — короткую, быструю, победоносную, — всё не заканчивалась. Наоборот, она только разгоралась с каждым месяцем.
Поражения под Сталинградом, под Курском, а затем и высадка союзников антигитлеровской коалиции в Нормандии стали ударами, потрясшими Германию и такое трудно было скрыть ни громогласной пропагандой, ни отчётами о "временно оставленных позициях".
Германия стремилась увеличить свою армию, посылая всё больше солдат на фронт, но число погибших росло с каждым днём. В конце концов наступило время, когда призывать просто было некого.
И тогда Гитлер объявил о мобилизации подростков из Гитлерюгенда. Делалось это не через приказы и торжественные речи — просто в отрядах зачитывали список ребят, которых отправляли на войну. Родители не возражали. Молчали — кто из страха, кто от бессилия. Некоторые, кажется, и правда думали, что так правильно.
Мы же, юные гитлерюгендцы, продолжали маршировать по улицам с лозунгами, укрепляя свой боевой дух. Но невозможно было не замечать чёрные повязки, которые появлялись на рукавах наших товарищей. Их надевали в знак траура — по погибшему отцу, брату или дяде.
И вот теперь уже мы провожали своих друзей туда — в это пекло. Кричали им на прощание, что они обязательно победят. Что вернутся героями. Мы всё ещё верили.
В июне 1944 года мне исполнилось 17 лет, а через месяц я, как член Гитлерюгенда попал на фронт в район Ясс — ключевой узел немецкой обороны на восточном фронте.
Нас встретила удушающая жара восточной Румынии. Мы, неопытные, молодые новобранцы, копали окопы, строили заграждения и укрепляли позиции, готовясь сдержать ожидаемое советское наступление. Работали под палящим солнцем.
С высоты, где мы стояли, была видна узкая, изогнутая лента, поблёскивающая на солнце - река Прут. В такую жару хотелось броситься в неё с головой, почувствовать прохладу, забыть хоть на миг, где ты находишься. До воды было около трёх километров, но оставлять свои укрытия нам строго запрещалось.
К середине августа налёты советской авиации участились: бомбили дороги, станции, переправы. Мы несколько раз попадали под мощный обстрел. Один из наших, парень из Гитлерюгенда, погиб — осколок попал ему в шею. Это был первый мёртвый, которого я видел так близко. Его глаза были открыты и, казалось, ещё блестели, как у живого.
С 20 августа гул советских бомбардировщиков и штурмовиков стал непрерывным. Взрывы сотрясали землю, превращая укрепления в глубокие воронки. Артиллерия била по нашим позициям. Мы сидели в окопах, прижавшись к стенкам, надеясь спрятаться от этой лавины огня. Говорить было не о чём — каждый следил за небом и понимал — началось наступление. Всё грохотало вокруг, земля дрожала под ногами, пыль лезла в глаза и рот. Страх давил внутри, тяжелый и острый. Я боялся — боялся погибнуть и боялся того, что придётся убивать. Но больше всего мне хотелось жить.
Два дня немецкие войска с трудом удерживали свои позиции, а 23 августа, когда мы из последних сил оборонялись, пришло известие, что румынский король Михаил 1 объявил о переходе Румынии на сторону антигитлеровской коалиции.
Это стало катастрофой для Германии — наши войска оказались во вражеской стране, отрезанные от снабжения и путей отступления, с боеприпасами на исходе.
Да, румынские союзники внезапно изменили театр боевых действий. В ряде секторов они отказались сражаться, открыли проход советским войскам и начали переходить на их сторону.
Румынские перебежчики рассказывали, что многие части просто сняли блокпосты, оставив всё без прикрытия.
Это было предательство — и оно опрокинуло все наши надежды на удержание фронта.
А враг продолжал стремительно наступать. Передовые отряды Красной армии уже форсировали реку Прут – границу между Румынией и Советским Союза.
Из-за продолжительной жары уровень воды в реке очень понизился, и в некоторых местах она была едва по грудь. Там, где глубина была больше, русские быстро навели понтонные мосты.
Танки, бронетранспортёры и пехота устремились вперёд, словно лавина, захватывая стратегические высоты, ломая остатки нашей обороны. Линия фронта буквально обрушилась — в некоторых местах немцы даже не успевали организовать отход. Это создало зоны хаоса и смешения войск, бой шёл в непосредственной близости.
Наконец, и я увидел их: в нескольких десятках метров, сквозь дым и пыль, шли советские солдаты — прямо на меня. Сердце колотилось так, будто вот-вот вырвется из горла. Всё внутри сжалось, страх засел глубоко в груди — отступать было некуда. Я приготовился к рукопашному бою…
И вдруг — ослепительная вспышка взрыва. Всё поплыло перед глазами, кровь застучала в ушах, и больше я ничего не помнил.
Когда очнулся, вокруг было тихо — бой слышался далеко, где-то за горизонтом, словно в другой жизни. Голова кружилась, в ушах звенело. Я лежал на спине в глубокой яме, присыпанный землёй, отчего дышать было тяжело.
На меня смотрело небо и мне, вдруг, подумалось: "Я, Иоганн Пфайфле, тот самый мальчишка, что мечтал стать археологом, — теперь лежу здесь, в чужой стране, в жаркой пыли войны. Никто не окликнул. Никто не помог. Значит, посчитали мёртвым. Забыли".
Попытался выбраться, мне это удалось, хотя чувствовал сильную боль в плече и боку.
Сел, отдышался. Руки и ноги двигаются. Но вот плечо жгло словно огнём.
Моя индивидуальная аптечка, закреплённая на ремне, к счастью, оказалась неповреждённой: мне удалось продезинфицировать рану и самостоятельно сделать перевязку. Бок ныл, особенно при вздохе – может ребро сломано или сильный ушиб. Но сейчас это неважно. Главное - жив.
Я огляделся. Всюду тела — наши, румыны, русские.
Неужели тут никого нет живого?
Голова гудела: наверное, меня сильно контузило. Я плохо понимал, с какой стороны фронт и тыл. Куда идти?
Страх, чувство одиночества и безысходности овладели мной настолько, что слёзы полились сами собой — от жалости к себе и непонимания, что делать дальше.
Однако здесь оставаться тоже было нельзя.
И тут я услышал где-то совсем рядом стон. Нет, мне не померещилось. Он шёл из той самой воронки, из которой я только что выбрался.
Меня охватила внезапная радость так, что на миг перехватило дыхание. Какое счастье! Значит, я не один! С жаром я принялся откапывать того, кто остался жив после боя.
Когда разгрёб слой земли настолько, что тот, заваленный, смог сам уже шевелиться, то увидел, что это советский солдат.
Я застыл в замешательстве. Передо мной — враг. Сердце дрогнуло: неужели я только что спас человека, против которого должен был воевать?
Машинально схватил винтовку с земли и посмотрел на откопанного: молодой парень, почти мальчишка, наверное, такой же, как и я.
Убить его? - В эти минуты мне хотелось понять, что делать, как поступить? - В голове была путаница: страх, долг, жалость, одиночество.
Я рассматривал этого парня и почему-то не чувствовал в себе ненависти к нему.
Наоборот, я был даже рад, что рядом со мной есть кто-то живой: разве можно быть сейчас врагами, когда оба едва спаслись от смерти? Когда сидим в одной воронке посреди чужой земли, и вокруг никого нет?
А может, не случайно судьба бросила нас сюда — в этот сухой, палящий солнцем уголок, чтобы мы встретились лицом к лицу — два подростка, оказавшихся пленниками одной жестокой войны?
- Нет, не хочу его убивать! - Я отбросил винтовку в сторону и помог ему окончательно выбраться из воронки.
Парень, иногда, стонал и я заметил, что рубаха у него была на боку пропитана кровью.
Осторожно приподняв её край, увидел рану — из неё сочилась кровь. Достав из аптечки дезинфицирующее средство, промыл рану, а затем наложил на неё последние остатки бинта. Чтобы закрепить повязку, оторвал куски ткани от своей и его рубахи. Потом дал ему попить воды из своей фляжки.
Русский глядел на меня с настороженностью, но без злобы и страха. Наверное, он тоже не понимал, почему я его не убил и помогаю ему. Ведь я враг. Немец. Может, он всё ещё ждал подвоха? Или пытался угадать, как всё повернётся дальше?
Но я знал одно — он понял, что у меня нет желания его убить. Что я не враг. Не сейчас. Не здесь. Может, завтра мы снова будем воевать друг против друга. Если выживем. А сегодня... сегодня мы просто два подростка, которым повезло остаться живыми среди мёртвых.
Да, я и сам представить себе не мог, что когда-нибудь буду перевязывать рану врагу.
Какая же она, настоящая война?
Мы, молча, сидели рядом и смотрели на пустое поле, где ветер гонял пыль между разбитой военной техникой, телами и выжженной землёй.
Сколько мы так просидели — трудно сказать. Но оставаться на этом безжизненном поле тоже было нельзя. А куда идти — я не знал.
Русский, повернувшись ко мне, медленно поднял руку и указал в сторону реки. Потом показал двумя пальцами жест, что надо идти.
Я понял: он предлагает мне пойти с ним. Но что меня ждёт там? Плен? - Наверное.
А если я пойду в другую сторону? Сколько мне надо будет блуждать в незнакомой и враждебной местности, чтобы найти своих? - Ведь теперь Румыния союзница СССР и меня может убить любой, который встретится мне на пути. Да найду ли я кого-нибудь? – Значит, придётся довериться этому парню.
Я посмотрел на него. Спокойный и серьёзный он ждал моего ответа.
Выбора у меня не было. Я тяжело вздохнул и кивнул.
Когда мы приблизились к берегу реки, вечер уже опустился на землю, и дневная жара спала.
Я засомневался, сможем ли мы переправиться через реку: плечо и бок болели, голова кружилась, да и мой напарник был слаб.
Я не знал, насколько глубока река и где можно её пройти в брод, но русский шёл вперёд, словно хорошо знал эту местность. Указав на густые заросли и низкие кусты, он вошёл в воду – я лишь брёл следом за ним, пытаясь не отстать.
Течение почти не ощущалось. Вода была тёплой. Сначала она была по колено, потом по пояс, а на середине – по грудь. Дно было твёрдым — глина, песок, местами мелкие камни. Ноги иногда попадали в мягкие ямки, из-за чего мы спотыкались, но продолжали двигаться вперёд.
Последние шаги дались с огромным трудом, но нам удалось перейти реку.
На берегу мы, упав в траву, долго лежали, тяжело дыша, чувствуя, как дрожат ноги, руки.
Мы по-прежнему не произнесли ни слова — но, кажется, уже начали понимать друг друга.
Прут остался позади. Впереди начиналась другая земля — чужая для меня и родная для русского.
Почему я пошёл с ним? Почему доверился русскому парню? - Я пытался понять это.
Но, странное дело - я не чувствовал себя предателем. Я просто хотел жить. А кто в семнадцать лет не хочет этого? Если моим единственным шансом выбраться отсюда, было — идти за молчащим, раненым врагом, то пусть так.
Русский повернулся ко мне и указал на себя:
- Петру.
Я понял, что это его имя.
- Иоганн, - ударил себя по груди в ответ.
Петру показал рукой — идти. Я кивнул и двинулся следом.
Мы шли медленно, будучи постоянно настороже. В темноте казалось, что каждая тень может оказаться укрывшимся врагом. Каждый шорох — будь то ветер в листве или треск сухой ветки под нашими ногами — заставлял замирать, затаив дыхание, прислушиваться.
К утру, когда туман всё ещё стелился по земле, мы добрались до какого-то хутора. Петру вошёл в избу, а я остался ждать его во дворе. Из глубины дома донёсся какой-то шум и сдавленные крики.
Спустя время, Петру вышел — но уже не один, а с двумя женщинами. Я не разглядел их толком: с трудом соображал от усталости, головокружения. У меня было единственное желание – лечь и заснуть.
Петру отвёл меня за какое-то строение, похожее на сарай. За ним оказался примитивный сенник — четыре деревянных столба, крыша из досок, кое-где залатанная соломой, и куча утрамбованного сена под ней. Пахло от сена терпко — высушенной полынью, луговыми травами и солнцем.
Женщины принесли кувшин с водой и полотенце, а ещё — кружку кипятка и три варёные картофелины. Я почти ничего не помню: как умылся, как поел, как улёгся на сено. Только аромат полевых трав, тишина и долгожданный сон.
Война ушла дальше на запад, оставив после себя чёрную полосу пепла и могил. Хутор, где приютили меня, был крошечной точкой на карте выжженной земли, затерянной среди леса и холмов. Одна из женщин оказалась матерью Петру, а вторя - Каталина – его сестра.
Что рассказал Петру им про меня, я тогда не знал, но они приняли меня и относились ко мне не просто доброжелательно, а с заботой и искренней теплотой.
Я и Петру были молоды и полны желания жить, а благодаря их уходу за нами, мы довольно быстро восстанавливались, раны зарубцовывались.
Каждый день я наблюдал за Каталиной — как она хлопотала по хозяйству, как заботилась о нас, приготавливая отвары из трав, подавая их с нежной улыбкой. У неё были тёплые руки и глаза, полные света.
Каталина… Это имя стало звучать для меня, как лучшая в мире музыка.
Мог ли я представить, что в этой разорённой земле, посреди отчаяния, ко мне впервые в жизни придёт настоящее чувство? Ослепительное, как вспышка молнии – любовь - яркая, всепоглощающая, такая, что сжимала грудь и туманила разум.
Каталина — стройная, лёгкая, как грациозная лань, с гибкой фигурой и глазами, от которых у меня перехватывало дыхание: в них была и глубина, и нежность, и что-то неразгаданное. Я буквально задыхался от любви, глядя в них.
Мне хотелось обнять эту юную девушку и прижать к себе навсегда, как самое дорогое сокровище на земле.
Да, именно на этом хуторке пришла ко мне любовь и началась моя новая жизнь.
Языковая преграда отступала быстро: молодость, страсть к учебе, сделали своё дело — я заговорил на языке, приютивших меня людей и, как это оказалось - на румынском, довольно легко, почти без акцента - юношеская память и увлечение методами Шлимана помогали.
А когда я стал уже очень хорошо понимать румынский язык, Петру рассказал мне об истории своей семьи:
— Наверное, ты был удивлён, когда я, ещё на той стороне Прута, позвал тебя с собой? А потом привёл к себе домой? - Я понимал, что ты погибнешь там один. Да и злобы у меня не было на тебя. А сейчас я даже рад, что ты рядом. Ты оказался хорошим парнем, и я уже могу рассказать тебе о том, что нам, крестьянам, пришлось пережить… Потому что знаю, что такое советская власть. На своей шкуре её почувствовал.
Никакие мы не русские и не молдаване - мы румыны. Говорили на румынском, молились на нём, детей крестили румынские священники. И это была наша земля. Я с рождения знаю эти места, поэтому и вёл тебя сюда своими тропами.
Много у нас тут людей живёт разной национальности — и в Унгенах, и на хуторах вдоль Прута – но русских тут не было.
А потом, в сороковом, они пришли — советские. Вошли, как хозяева, без спроса, с танками. Землю отобрали, отца моего — зажиточным посчитали — увели ночью. Он так и не вернулся.
Они говорили: вы - теперь советские молдаване. Писать должны только по-русски или на их "молдавском", но кириллицей. Наш язык, наша вера — всё это вдруг стало вражеским. Людей вывозили в Сибирь, в вагонах, как скот. За то, что румын.
Теперь вот ты здесь. Враг их. Но не мой, потому что мой враг — тот, кто пришёл без спроса, кто семьи разорил и сделал вид, что так и должно быть.
Петру научил меня ухаживать за виноградом — как обрезать лозы, чтобы не повредить побеги, как вовремя поливать и собирать ягоды, когда они достигают той самой идеальной спелости.
Да, я стал "мэ оку;п ку виа" — виноградарем. И мне это нравилось.
Здесь, на западе страны, солнце щедро согревает землю, а она, богатая минералами, дарит лозам силы расти крепкими и здоровыми. Мягкий ветерок и особый микроклимат делают виноград ароматным и сладким.
Мы собирали спелые гроздья, и спешили превратить их в вино — живую душу этой земли. Вино, которое делали своими руками, было не просто напитком, а историей в каждом глотке — терпкой и тёплой, словно сама суть всего живого.
Вечерами, когда солнце садилось, мы собирались вместе, чтобы разделить этот плод труда — и в каждом бокале я чувствовал, как становлюсь частью этой семьи.
А однажды Петру спросил меня:
— Что будешь делать дальше, Ион? Война давно закончилась. Вернёшься домой?
Я не знал, что ответить ему, глядя на закат, обжигающий небеса алым пламенем. Где теперь мой дом? Что осталось там, за горизонтом? Для своей Родины – я давно уже мёртв.
— Мой дом здесь, — наконец, тихо сказал я, - там, где моя любовь. Всё, что было прежде – ушло. Ты же знаешь, что я люблю Каталину. Ради неё я становлюсь другим. Не Иоганном, а Ионом.
- Знаю. И, кажется, она тоже… любит тебя. Соберём виноград, да и венчайтесь.
Осенью 1950 года мы с Каталиной скромно обвенчались в полуразвалившейся церкви, с оплавленными свечами и запахом ладана.
Старенький священник благословил нас и, когда Каталина надела мне на палец тонкое обручальное кольцо, я ощутил себя самым счастливым человеком на Земле.
Да, Иоганн Пфайфле, сын Германии, нашёл свою судьбу не в археологических раскопках, — а на маленьком хуторе Молдавии, среди виноградных лоз и в любви.
Фамилию мою — Пфайфле — принимали без лишних вопросов. Эти края всегда были переплетением народов: румыны, молдаване, украинцы, болгары, немцы, евреи — здесь жили бок о бок веками. Необычных имён и фамилий тут было достаточно. Вокруг же нас жили простые крестьяне, которые прежде всего думали о хлебе насущном и о том, как пережить завтрашний день.
А мы были молоды, и всё было ещё впереди.
Шли годы.
Мир, такой хрупкий и измученный, медленно залечивал военные раны. Над развалинами деревень и хуторов поднимались новые дома, засеивались поля, цвели виноградники, рождались дети.
С каждым годом я всё глубже врастал в эту землю. Я стал настоящим виноградарем, знал каждый куст на своих виноградниках, умел читать погоду по дыханию ветра.
У нас родились два сына и три дочери – наше маленькое крепкое счастье. Ни разу я не пожалел, что судьба послала мне Каталину – мою любовь, опору и поддержку в жизни.
Конечно, жизнь в СССР была непростой, лучше сказать — тяжёлой. Но та атмосфера в нашем доме, которую мы создали с Каталиной, помогала нам принимать и переносить все трудности легче.
Петру тоже имел дружную и крепкую семью.
У нас был общий труд. Наши виноградники нуждались в постоянном уходе и заботе.
Каждое утро мы ходили туда, чтобы проверить лозы, убрать сорняки и следить за состоянием растений. Виноград — капризная культура: он требовал своевременной обрезки, подвязки и защиты от вредителей и болезней. Особенно много работы приходилось на весну и лето — когда природа пробуждается и всё стремительно растёт.
Эта общая забота о виноградниках сплачивала нас, как семью и давала силы и надежду на будущее. Даже когда были трудности — с погодой, с поставками или с жизнью в целом — мы знали: вместе нам всё по плечу.
Вот так в трудах и заботах проходила моя жизнь.
А потом… потом выросли наши дети, выучились, переженились, родили своих детей.
А мы с Каталиной стали бабушкой и дедушкой.
Когда в начале девяностых грянули большие перемены, мы не думали, что они коснутся и нас. Что тут может измениться? - Как жили, так и живём. - А оказалось, что развалилась огромная страна, и теперь всё поменялось.
27 августа 1991 года Молдова стала независимым государством.
Сложно наладить собственную экономику маленькой стране, которая была частью могучего механизма СССР, поэтому поначалу многое было нестабильным и даже криминальным.
И наша жизнь на хуторе ухудшалась с каждым днём. Работа на виноградниках, которыми мы гордились и которые кормили наши семьи десятилетиями, постепенно теряли смысл — рынки продажи вина исчезали, урожаи оставались невостребованными.
Но самое страшное случилось, когда наш старший сын, работавший в Кишинёве, погиб от рук бандитов. Это был удар, который разорвал наши души на части. Каталина плакала ночами, боясь за остальных детей.
В один из поздних вечеров, Каталина, посмотрев на меня, вдруг сказала такое, чего я никак не ожидал:
- Ион, я никогда бы не заговорила с тобой на эту тему, но моя душа болит от переживаний за детей. Ты видишь, что творится в стране?
- О чём ты, дорогая?
— Ты ведь из Германии. Сейчас многие возвращаются на свои исторические земли... Почему бы и нам не уехать?.. Я не хочу больше терять детей... Наверное, им там будет непросто, но они справятся — ведь они трудолюбивые и самостоятельные. Они знают твой язык, ты сам их научил... Здесь мы радовались каждому их успеху — и я верю, что в Германии ты будешь гордиться ими не меньше.
До этого разговора я почти не думал о своей Родине. Казалось, прошлое осталось где-то далеко, и здесь, на этой земле, я должен был строить свою жизнь до конца. Но после слов Каталины, мои мысли стали иными.
Теперь, почти каждую ночь, воспоминания о годах, прожитых там, навещали меня — я вспоминал родной Нойбуков, родителей, брата, море, которое давно не видел, мечты молодости. Это медленно стало подталкивать меня к решению, которого я боялся, но которого уже не мог избежать.
Я написал письмо в Генеральное консульство Германии в Кишинёве. Простыми словами рассказал о себе: о своём рождении в Нойбукове, о том, что в 1944 году, будучи подростком, я оказался на территории Молдавии в ходе военных действий. После окончания войны из-за отсутствия связи с семьёй и невозможности вернуться в Германию остался жить на одном из молдавских хуторов. Что сохранил немецкую фамилию и свою идентичность (как немца) и знание немецкого языка. Просил признать меня лицом немецкой национальности и могу ли я, Иоганн (Ион) Пфайфле, спустя столько лет подать прошение на возвращение на мою историческую Родину? - так заканчивалось моё письмо.
Написал это с огромной тревогой.
Запечатав конверт, я долго держал его в руках, словно боялся выпустить в мир свои воспоминания и надежды. Опустил письмо в почтовый ящик на центральной улице ближайшего села, и с этого времени каждый день ждал ответа.
И ответ пришёл.
Письмо из немецкого консульства я перечитывал по десять раз на дню. Требования были простыми и чёткими: свидетельство о рождении, документы о немецком происхождении, справка о гражданстве.
Всё то, чего у меня не было.
- Значить ничего нельзя сделать? – спросила меня Каталина вечером, когда мы сидели за ужином.
— Надо искать брата, — ответил я. — Если Густав жив... если он остался в Германии... он сможет подтвердить, кто я. Напишу в Красный Крест. Дети говорили, что он помогает искать родных после войны.
Началась долгая переписка. Ответы приходили медленно. Прошёл год. Потом второй. Были запросы в архивы, в церковные книги, в администрации разных земель. Надежда то угасала, то разгоралось снова.
И вот, в 2000 году — через пять лет долгих ожиданий и отчаяния — я получил письмо. Оно было от Густава.
Дрожащими руками я разорвал конверт: "Брат мой, если ты и вправду жив, докажи мне это, — писал он. - Расскажи что-то такое, что знали только ты и я".
Мне пришлось долго сидеть над ответом, вспоминая ту жизнь, которая казалась уже чужой. Я написал ему о нашем доме в Нойбукове, о старом вишнёвом дереве под окном, на котором мы прятались от родителей. О том, как в последнюю ночь перед моим уходом на фронт, мы сидели вдвоём под этой вишней и смотрели, как падают звёзды, загадывая свои желания и о том, как он сунул мне в карман сложенный листок, с нарисованной им картой нашего городка, с отметкой нашей улицы — чтобы я не заблудился по дороге домой.
Я переслал письмо через Красный Крест.
Ответ пришёл быстрее, чем я ожидал.
"Ты жив, — писал Густав. - И я ждал тебя всю жизнь."
Густав нашёл и сделал копии документов, которые требовались в консульстве: свидетельство о рождении, справки о родстве.
И в 2003 году, после долгого процесса оформления бумаг, их переводов, заверений и печатей, я держал в руках документы на выезд.
В последний вечер, перед вылетом в Германию, я сидел за большим столом со своей семьёй. Дочки постарались – на наш прощальный ужин они приготовили много традиционных вкусных молдавских блюд. Мы говорили обо всём: как встретит нас Германия и что нас ждёт? Вспоминали прошлое — то, что не сотрётся ни из памяти, ни из сердца, где бы мы ни были. Разве всё это забудешь? - Здесь прошла вся моя жизнь. Я был благодарен этой земле — за любовь, за дом, за детей, за всё, что она мне дала.
Я посмотрел на Каталину, на детей и сердце сжалось от радости, но и тревоги.
— Ну что, мои дорогие, завтра начнём новую жизнь? — спросил я с волнением.
Поездка из хутора близ Унген в аэропорт Кишинёва заняла около двух часов. Я сидел рядом с водителем и внимательно всматривался в мелькавшие пейзажи: холмы, покрытые виноградниками, словно зелёные волны, медленно катились вдоль дороги, а дальше, золотистые поля, колышущиеся под лёгким ветерком, маленькие деревни с домами, увитыми цветущими лианами. Всё вокруг мне было дорого, словно любимая книга, которую я перелистывал снова и снова.
В моей душе звучала благодарность — за каждое утро здесь, за любовь, за семью, которую я создал.
Но вместе с этим тихо поселилась грусть: теперь эти виды станут лишь воспоминаниями, далекими и неизменными.
Новая жизнь ждала меня впереди, но сейчас — только последний взгляд на знакомый, родной мир.
В аэропорту всё было организовано быстро: регистрация, багаж, паспортный контроль.
Прямой рейс на Берлин.
Удивительно, как просто оказалось пересечь черту между прошлым и будущим.
Чем ближе мы подлетали к Берлину, тем труднее было справиться с нахлынувшим волнением. В груди что-то давило. То ли страх, то ли радость, сливаясь в один тревожный комок.
— Всё будет хорошо, — тихо сказала мне Каталина.
Берлинский аэропорт Тегель встретил нас шумом и людской суетой.
Я растерянно оглядывался, вглядываясь в лица. И тут я увидел его, Густава.
Мы не виделись 59 лет, но я сразу узнал брата. Высокий, статный, седой — на миг мне показалось, что я смотрюсь в зеркало, так он был похож на меня.
Мне вспомнился он ещё двенадцатилетним — весёлым и беззаботным, часто подражавшим мне, потому что я был его старшим братом.
Теперь же передо мной стоял мужчина с благородными чертами лица, но с тем же выражением глаз, в которых по-прежнему жил тот мальчишка.
Мы встретились глазами, и в этом взгляде промелькнула вся наша история — годы разлуки, молчания.
Я почувствовал, как сердце забилось сильнее, а на глазах выступили слёзы.
Густав медленно подошёл, глядя на меня в упор, словно ища во мне того брата, которого когда-то потерял.
Я шагнул вперёд.
— Иоганн? — спросил он дрожащим голосом.
Я не ответил. Только кивнул.
И в следующее мгновение он крепко обнял меня — так, как обнимают только тех, кого вырвали у смерти, у времени, у судьбы.
— Я знал, что ты жив, — шептал он. — Знал... хоть никто не верил.
— Ты стал совсем взрослым, — наконец сказал я, улыбаясь сквозь слёзы.
— А ты, — усмехнулся он — остался тем старшим братом, которому я когда-то нарисовал карту Нойбукова.
Через несколько часов мы были у Густава в его доме, под Берлином.
Он рассказал мне, что после того, как наша мама получила известие о моей гибели, в нём зародилось решительное желание сохранить мою мечту — стать археологом - продолжить то, к чему я стремился, сделав это своим увлечением и профессией.
Конечно, Густав не стал таким знаменитым, как Шлиман, но за годы работы он сделал множество интересных открытий — в Египте, Средней Азии, Южной Америке.
Но главное - Густав никогда не жалел о своём выборе и гордился тем, что смог посвятить жизнь этому делу.
Его дом полон уникальных артефактов и коллекций, собранных в путешествиях.
Вот уже четыре года я живу в Нойбукове — в городке, где родился, жил до семнадцати лет и откуда ушёл на фронт.
Конечно, многое тут изменилось, но он всё равно остался уютным маленьким городком, сохранившим ту атмосферу, которую я помнил. Всё так же запах моря доносит сюда солёную свежесть, напоминая о присутствии Балтики. Узкие улочки, аккуратные домики и небольшие кафе словно сохраняют дыхание прошлого и моего детства.
Когда мы с Каталиной бываем на море, я долго смотрю на него - и вспоминаю. Вспоминаю то далёкое лето 1944 года, когда мне казалось, что весь мир рушится навсегда.
И с каждым годом я всё яснее осознаю: войны никогда не были нужны простым людям. Её хотят только те, кто ослеплён собственным величием, кто ставит личные амбиции выше человеческих судеб.
Я не понимал раньше, что наш вождь одурманивал народ речами о защите Родины, о великих победах.
Но теперь я знаю - война, всегда начинается с большого вранья. С красивых слов о чести, о долге, о великом предназначении. Я видел, как люди, воспитанные на этих лозунгах, шли умирать, искренне веря, что совершают подвиг. Однако война заканчивается всегда одинаково: смертью, разорением, потерей.
Я не хочу, чтобы история повторилась — чтобы снова кто-то маскировал свою жажду власти речами о спасении и высокой цели, а миллионы людей оказывались заложниками чужого тщеславия.
Верю, что каждый человек, каждый народ имеет право на мир.
Мне хочется, чтобы наши дети больше никогда не узнали, как тяжело умирать за обыкновенную ложь.
И, может быть, если эти строки прочтёт молодой человек, кто ещё не сделал свой выбор, — задумается. И сохранит этот мир лучше, чем мы когда-то смогли.
Я уверен, что Любовь спасёт мир. Я знаю это, потому что сам был спасён ею.

Peka Прут , фото из Интернета.
* * *

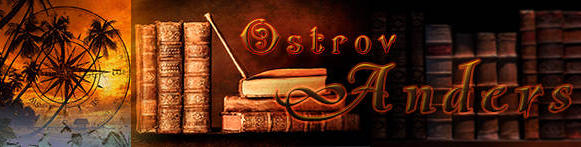
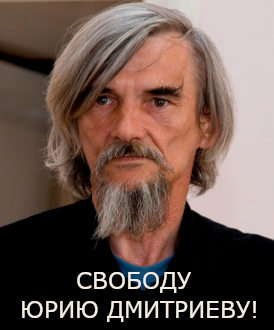
 EN
EN Старый сайт
Старый сайт
 Голод Аркадий
Голод Аркадий  Тубольцев Юрий
Тубольцев Юрий  Буторин Николай
Буторин Николай  Некрасовская Людмила
Некрасовская Людмила  Самойлов Борис
Самойлов Борис  Андреевский Александр
Андреевский Александр  Андерс Валерия
Андерс Валерия 