Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Памятник» (1836 г.)
знают все. Или, уточним, очень многие. А те, кто учился в школе ещё при
Советской власти, радостно прочитают вам этот «Памятник» наизусть и
в глубокой старости.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознёсся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит –
И славен буду я доколь в подлунном мире … и т.д.
Но не всем известно, что это не оригинальное стихотворение, а перевод
коротенькой оды Горация, жившего в первом веке до н.э., которая называется
«Exegi monumentum (с лат.- «Я памятник воздвиг»).
Известна она также под названием «К Мельпомене». В академических изданиях значится даже, что это вольный перевод с переработкой или поэтическое переложение. Естественно, подразумевается, что А.С. «углубил», окультурил, облагородил и возвысил древний первоисточник.
Но только был ли Гораций первоисточником для Александра Сергеевича?
Вот в чем вопрос.
Дело в том, что эту оду Горация переводили многие известные поэты и до
Пушкина и после него. Чаще, чем «Exegi monumentum”, переводили на русский разве что 66-й сонет Шекспира или его же трагедию «Гамлет».
И, по крайней мере, шесть известнейших поэтов перевели оду Горация на русский язык до Александра Сергеевича: Ломоносов (1747), Державин(1795) Тучков (1800) Востоков(1802), Капнист (1806) , Батюшков (1826),
Кроме того, возник ещё, совсем рядом, перевод Адама Мицкевича (1833) на
польский яз., но он, по смыслу, был совсем о другом и очень далек от оригинала:
Встал памятник мой над пулавских крыш стеклом.
Переживет он склеп Костюшки, Пацов дом,
Его ни Виртемберг не сможет бомбой сбить,
Ни австрияк-подлец немецкой штукой срыть.
Ведь от Понарских гор до ближних к Ковно вод,
За берег Припяти слух обо мне идет,
Меня читает Минск и Новогрудок чтит… и т.д.
(перевод С.Кирсанова)
Да, узнал бы бывший раб Квинт Гораций Флакк, гражданин свободного Рима, про австрияка-подлеца с его немецкой штукой для рытья, Виртемберга с бомбой и особенно про Пацов дом, он, наверное, дважды бы в гробу перевернулся, как наш Николай Васильевич Гоголь. Тоже ведь, чем – то напугали.
Надо сказать, что после кончины Пушкина переводы «Памятника» вообще стали как бы традицией в нашей литературе. Сейчас послепушкинских переводов, причем достаточно известных, насчитывается более 20-ти. Перечисление их здесь большого смысла не имеет, однако две фамилии назовем.
Это Афанасий Фет (1854) и (дважды) Валерий Брюсов (1913 и 1918 гг).
Но и при таком обилии переводов считается (экспертами, литературоведами, да и нами, грешными), что Пушкин задал настолько высокую планку, что преодолеть её не удалось пока никому.
Правда Петр Андреевич Вяземский, близкий друг А.С. и его коллега по
литературному цеху нашел - таки пятна на «Солнце» нашей поэзии».
Причем, именно на примере Пушкинского «Памятника».
Как же так, говорил Петр Андреевич, «стихи он писал рукой, значит памятник,
как раз - таки, является рукотворным».
Такой вот друг.
Пушкин и писал о нем:
«Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе.»
Но ответ на шутку Вяземского в творчестве Пушкина всё-таки имеется:
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Т.е. пальцы, перо, бумага - это всего лишь инструменты.
А вот «мысли в голове» - это и строительный материал, и рабочая сила.
В виртуальном мире все ведь по - другому.
Но это уже иная история и другие памятники. А нам пора возвращаться к Горацию.
Ближе всех к Пушкину, конечно, текст Гаврилы Романовича Державина:
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.
Так! — весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, по смерти станет жить,
И слава возрастет моя, не увядая … и т.д.
«Памятник» Пушкина написан в том же шестистопном ямбе, в жанре оды,
с сохранением структуры стиха: четыре строфы - о себе, а в пятой - обращение к музе.
Пушкин заимствует также первые фразы почти каждой строфы:
«Я памятник себе воздвиг…»
«Так!- весь я не умру…»,
«Слух обо мне пойдет»,
«О муза…»
Похоже, что Александр Сергеевич не стал заморачиваться переводом
с латыни, а ничтоже сумняшеся содрал с Гаврилы Романовича все, что можно, а что не можно, дописал сам.
Кстати, чувствуется, что А.С. прекрасно знал и другие «Памятники»: в текстах
его предтеч встречаются «до боли» знакомые рифмы и сочетания.
Но неужели такое возможно? А авторское право? А корпоративная этика?
А общечеловеческая мораль?
Ну, между этими «Памятниками» прошло более сорока лет, что и по нынешним - то меркам, срок вполне допустимый. Да и само «авторское право», как таковое, возникло через много-много лет после событий на «Черной речке».
Что же касается корпоративной этики, то Пушкин ещё в 1825 г. в письме А.А. Дельвигу «корпоративно» говорит о Державине: «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот моё окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения… Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы… ...читая его, кажется что читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски—а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем о нем(не говоря уже о его министерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а прочие сжечь». (Десятитомник Пушкина. 1959-1962. Том 9. Письма 1815-1830).
Вот так. Это он о покойнике -то.
А что касается общечеловеческой морали, так у нас тоже есть на что посмотреть и что почитать:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
………………………………………
………………………………………..
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Это одно из лучших лирических стихотворений Пушкина, которое знают все.
Посвящено оно Анне Петровне Керн. А в письме своему другу С. А. Соболевскому (вторая половина 1928г.) Александр Сергеевич пишет из Петербурга в Москву: «Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о M-me Kern, которую, с помощию божией я на днях уёб». (Десятитомник Пушкина. 1959-1962. Том 9. Письма 1815-1830).
Так что с моралью у нас тоже все в порядке.
Итак, чего там говорить, обидели Гаврилу Романовича, хотя…. он ведь «в гроб сходя, благословил!». Видимо, предвидел все возможные варианты и как бы обещал не сердиться.
Правда, это по словам того же Александра Сергеевича.
Но Гаврила Романович и сам был «парень не промах» и также плотно поработал над текстом М.В. Ломоносова, который первым перевел Горация за 50 лет до него:
Я знак бессмертия себе воздвигнул
Превыше пирамид и крепче меди,
Что бурный Аквилон сотреть не может.
Ни множество веков, ни едка древность.
Не вовсе я умру, но смерть оставит
Велику часть мою, как жизнь скончаю,
Я буду возрастать повсюду славой ит.д.
(1747)
Думается, что и Державин не добрался до первого века до н.э., тем более,
что он очень плохо знал латынь. Это общеизвестно. Да и кто станет
работать с мудрёной древней латынью, если можно прекрасно без словарей
переводить тексты с русского языка на русский? Получается, что один только Михаил Васильевич Ломоносов честно и праведно переводил Горация с латыни на русский язык. Он ведь был первым. Рифмы и идеи красть не у кого!
Здорово!
Но, есть «Но».
Дело в том, что Ломоносов был энциклопедист и полиглот.
В его бумагах нашли лист с перечнем 30-ти языков, которые он предположительно знал, и 13 из них были отмечены крестиками, это те, которые он знал в совершенстве.
Среди этих 13-ти были все основные европейские языки, а также монгольский и иврит.
А лет за сто до Михайлы Васильевича «Exegi monumentum” был уже переведен на немецкий язык ( Симон Даха, 1600, Якоб Михаэль Рейнхольд, 1653), на английский яз. (Томас Уайт, Джон Драйден, 16-17 век), на итальянский (Джакомо делла Порта, 17 век), на испанский (Франсиско де Кеведо, 1622), а также на французский, голландский и др.
Так что, когда Ломоносов «принялся» за Горация он, как энциклопедист, просто не мог не знать большинства переводов, выполненных до него.
«А что же Тартюф», то бишь Гораций, который должен, казалось бы, парить надо всем этим замечательным безобразием в первозданной своей красе?
А Гораций, оказывается, тоже позаимствовал свою историю у какого-то древнеегипетского прозаика, имя которого до наших дней не дошло, а вот ссылки на это дело имеются.
Таким образом, перемещаясь по нашему виртуальному кладбищу памятников, сверху вниз (или снизу вверх?) по вертикали, от одного нашего замечательного классика к другому и далее, я добрался, наконец, до сына раба- Квинта Горация Флакка, римского поэта, а точнее, до его оды «Exegi monumtum («Я памятник воздвиг»),до её русского подстрочника (в интернете есть всё).
Вначале ничего не понял. Какой памятник? За что венок лавровый? Но там были сноски, примечания, разъяснения, отсылки, сравнения, анализы и т.д. Так что, в конце концов, я догадался, что памятником самому себе Гораций считает тот непреложный факт, что он первым смог «эолийскую песнь на италийские перепрясть лады», то есть перевести греческую поэзию на итальянский язык...
И я ему виртуально поаплодировал. На этом можно было бы и закончить наше исследование, но в последний момент я вспомнил ещё о двух невероятных "Памятниках" в русской поэзии. Это - «Памятники» Владимира Высоцкого и нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
С Высоцким всё просто: его «Памятник» - это абсолютно оригинальное,
очень крутое стихотворение, которое к древнеегипетским текстам и лично к Квинту Горацию Флакку никакого отношения не имеет.
Но как звучит(!!!):
«…Командора шаги злы и гулки.
Я решил: как во времени оном,
Не пройтись ли, по плитам звеня?
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.
Накренился я, гол,безобразен,
Но и падая – вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой,
И, когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров всё же
Прохрипел я: «Похоже, живой!»
С Бродским сложнее: у него есть два тематических стихотворения: "Памятник" и «Я памятник воздвиг себе иной..» И вот этот «памятник», который иной, собрал всю горечь
(или какую-то часть её) прошедших веков от Горация до наших дней и вывернулся наизнанку, как перчатка!
Нате вам!!!
Я памятник воздвиг себе иной! К постыдному столетию — спиной. К любви своей потерянной — лицом, И грудь- велосипедным колесом… ……………………………………………………… Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят, —
в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струей воды ударю в небеса.
Ну, что тут скажешь?
А тот же Владимир Семёнович Высоцкий нашел бы что сказать, например:
…Он то плакал, то смеялся,
То щетинился, как ёж –
Он над нами издевался…
Ну сумасшедший – что возьмёшь!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Так случилось, что пока я разбирался со всем этим беспокойным хозяйством,
у меня сложился собственный перевод (или «поэтическое переложение»)
«Памятника», в духе обозначившейся традиции русского перевода, уходящего
в глубь веков. И, по-моему, вариант получился не самый «ужастенный»:
Я памятник воздвиг, что долговечней меди,
Что царственней и выше пирамид,
Ни яростный потоп, ни гром других трагедий,
Ни смерть , ни тлен его не истребит.
Нет, весь я не умру, а в годы лихолетий
Восстанет часть моих былых идей,
Бесчисленность годов и бегство всех столетий
Не повредит поэзии моей,
Она останется блистать в безумном раже, И память не уснёт в час Высшего суда, Переживет Богиню смерти даже, А значит не исчезнет никуда!
И слава возрастёт и укрепит фундамент,
А Капитолий, жрец, весталка, Рим –
Всё вечность растворит, всё пропадёт и канет,
Но памятник мой будет невредим!
И сохранён за то, что я познал Гомера,
И растворил Эллады речь и суть
В Латинице родной, где не было примера…
Я первым был и обозначил путь.
Что дальше? Что теперь? Перо бумага, время,
Ведь памятник не удлинит мой срок,
Но только сам себе я возложу на темя
Дельфийский лавр - божественный венок.
P.S.
«Памятники» всех перечисленных персонажей можно найти в интернете
через любую поисковую систему.
* * *

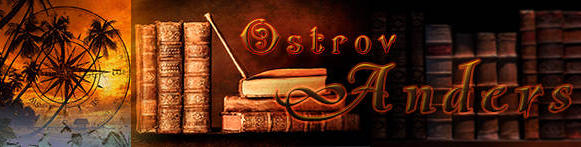
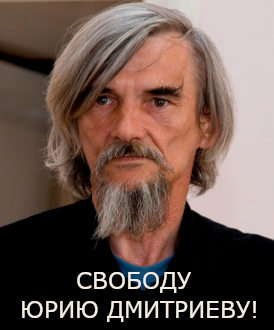
 EN
EN Старый сайт
Старый сайт
 Некрасовская Людмила
Некрасовская Людмила  Тубольцев Юрий
Тубольцев Юрий  Аарон Борис
Аарон Борис  Андреевский Александр
Андреевский Александр  Голод Аркадий
Голод Аркадий  Вебер Ирина
Вебер Ирина  Самойлов Борис
Самойлов Борис  Буторин Николай
Буторин Николай  Андерс Валерия
Андерс Валерия 