Часть 4. Распад кэртаса. 1917-1921, 1914-1916 гг.
Тяжелый кулак
Никодимус с Зиедонисом теплой апрельской ночью стояли отдельно от толпы на Кронверкском проспекте, и наблюдатель Уламколы с некоторой грустью глядел на балкон чудесного двухэтажного особняка, сотворенного в стиле популярного «северного модерна», украшенного керамической плиткой и прелестными орнаментами. Нечто сентиментальное поселилось в его сердце – он не к месту вспомнил, как именно в этом доме он предавался соитию с великой балериной. Теперь это строение прибрали к рукам революционеры, и их вождь, прибыв на броневике каких-то несколько минут назад, зашел в здание в сопровождении своих соратников.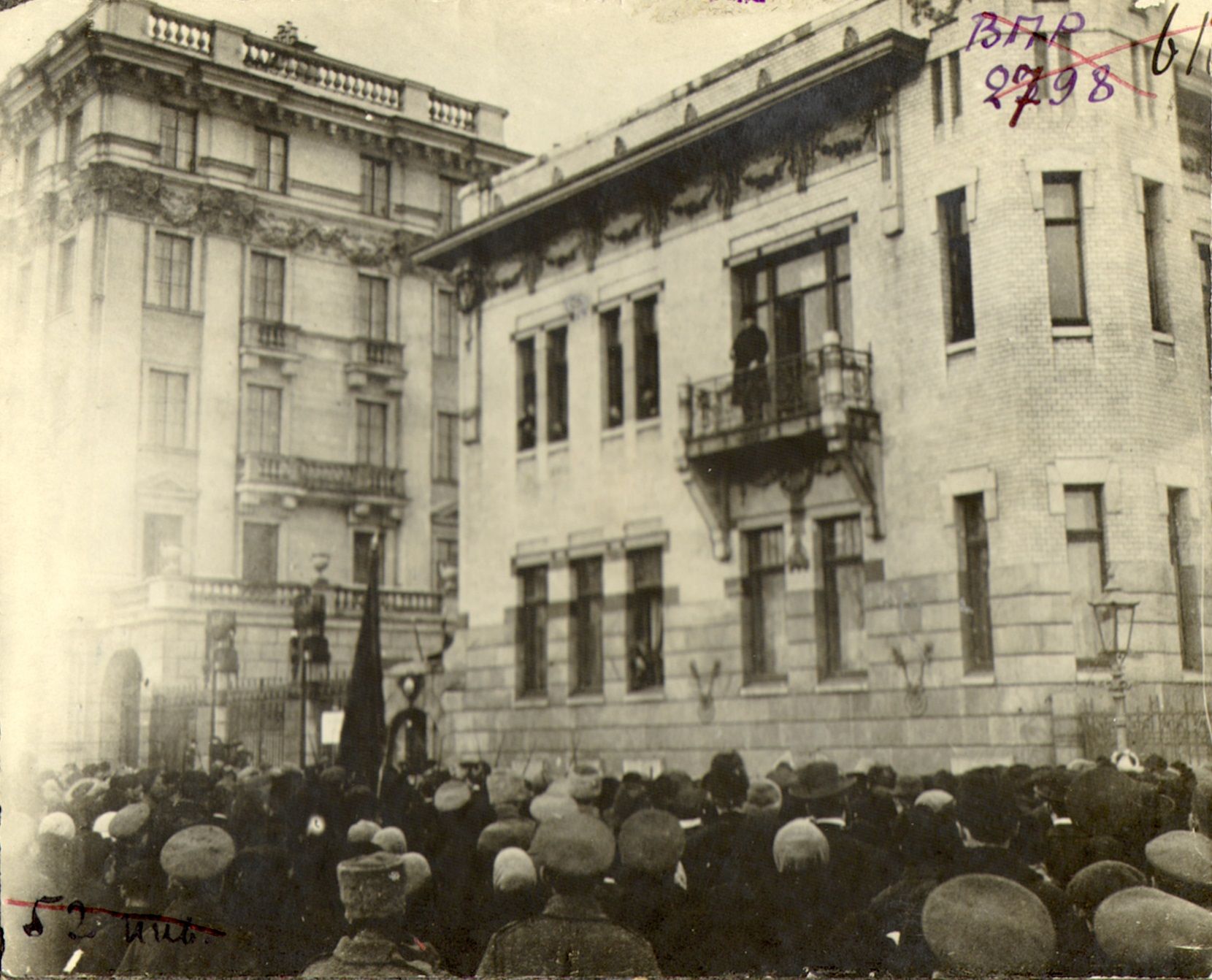
Вслед за вождем к бывшему особняку Кшесинской пришли матросы в бушлатах, солдатня в серых шинелях, дамочки с темными зонтами, укрывавшими их от накрапывающего весеннего дождика, интеллигенты в длиннополых пальто, рабочие в куртках. Несколько пожарных в мундирах держали в руках зажженные факелы. Всем хотелось послушать, что скажет очередной пришелец из-за кордона, а пока разговаривали друг с другом, создавая общий гул.
Этой весной ораторы стали популярнее Шаляпина и Мамонта Дальского. О чем бы ни говорили новоявленные цицероны – одни призывали к войне до победного конца, другие считали, что воюющим сторонам надо предложить мир без аннексий и контрибуций, а пока защищать революцию – их слушали с восторгом и аплодировали каждому сказанному слову. Но прибывший издалека на Финляндский вокзал очередной политический лидер загнул нечто совершенно новое. Забравшись с помощью кронштадтских матросов на двухбашенный броневик, он обозвал тянувшуюся четвертый год войну «позорной империалистической бойней», но не сказал – а может и сказал, но мало кто расслышал – что из этого следует. И теперь, несмотря на ночь, все ждали продолжения.
Долго ждать не пришлось. Кто-то из толпы крикнул: «Ленина давай!». Прожектор броневика осветил балкон и на него вступил невзрачный лысый человек в распахнутом черном пальто и громко заговорил, глотая букву «р»:
– Договие товагищи солдаты, матгосы и габочие! Я счастлив пгиветствовать в вашем лице победившую геволюцию. Но она, увы, ничего не изменила. Власть пгибгала к гукам бугжуазия в лице вгеменного пгавительства, посылающего в топку миговой бойни сотни и тысячи новых и новых людей. Нагоду не нужна эта ггязная миговая война. Нагоду нужен миг, нагоду нужен хлеб, нагоду нужна земля! Однако кончить войну истинно демокгатическим, не насильническим мигом нельзя без свегжения капитала. Поэтому импегиалистическая война должна стать ггажданской во всей Евгопе.
Широкоплечий бородатый солдат с винтовкой за плечами, оказавшийся рядом с Никодимусом и Зиедонисом, в полный голос произнес: «Вот кого надо поднять на штыки!». Никто на эту реплику не обратил внимания. Все заворожено слушали изречения оратора.
– Либегально-бугжуазная стадии геволюции закончена. Да здгавствует миговая социалистическая геволюция! – завершил свое выступление новоявленный вождь и вернулся в комнату.
В ответ раздалось несколько протестующих свистков, но их тут же перекрыли аплодисменты и крики «Ура!». Солдат с винтовкой смачно сплюнул и ушел прочь.
– Как вы думаете, любезный Федор Моисеевич, у него получится? – спросил Никодимус Зиедониса, имея в виду не солдата, а оратора.
Федор-Абрам стоял, хмуро заложив руки в карманы серого потертого пальтеца, и, казалось, не слушал ни Ленина, ни Календера. На самом же деле его навостренные уши внимали всему, что неслось как с балкона особняка, так и из толпы. Ленин ему напомнил Тугая. Та же картавость, та же решительность. И оба были невысокого роста.
– Не понял, что у кого получится? – переспросил Федор-Абрам.
– Мировая социалистическая революция, – уточнил Никодимус.
– Хотелось бы, но вряд ли, их слишком мало.
Народ между тем не расходился. Все ждали, что этот необычный оратор снова появится и еще раз поразит всех новизной.
– Однако встречать его пришло совсем немало людей, – возразил Никодимус. – Это как-то необычно.
– Ничего необычного. Шляпников[i] с Каменевым[ii] постарались. Сагитировали матросов с Кронштадта, рабочих с Путиловского, привели пожарных. Решили переплюнуть так называемых меньшевиков. Те для встречи Плеханова созвали куда как более народа, – мрачно пояснил Зиедонис, по-прежнему глядя на асфальт, как бы ища помощи у подземного царства, в котором он имел счастье побывать четыре года назад.
ххх
Эти четыре года многое в себя вместили. Он, Федор-Абрам, приговоривший сам себя к смерти, в короткие сроки прожил несколько жизней. Был террористом-неудачником, эсером, эсдеком, студентом юрфака. Одно путешествие в Уламколу стоило отдельной биографии. А затем продолжилась учеба, совмещаемая с конспиративной деятельностью. Они с Левой Караханом и совсем небольшим числом соратников сумели наладить работу подпольной типографии в подвале старого дома в Чубаровом переулке, куда можно было попасть с похожего на колодец, зажатого с четырех сторон домами двора. В этом хулиганско-пролетарском районе обитало «лиговское сословие» – шпана, проститутки, сбытчики кокаина и прочие асоциальные элементы. Сюда редко совалась полиция, а охрану от криминальных элементов организовали рабочие. Поэтому Зиедонис и Карахан очень удивились, когда четыре «архангела» неожиданно заявились прямо в типографию. При обыске жандармы изъяли готовые к распространению тиражи газеты «Вперед» и несколько еще рукописных и неопубликованных статей Троцкого. Приговор суда был на удивление мягким – административная высылка в Томск.
В этом сибирском городе Лева сумел продолжить учебу в Томском университете, а Федор-Абрам, давно понявший, что не в состоянии быть одновременно студентом и подпольщиком, устроился провизором в аптеку.
Отречение царя застало их обоих в Иркутске, и они с азартом вместе с многочисленными единомышленниками из числа ссыльных принялись создавать советы рабочих депутатов. На какое-то время им удалось в сибирском городе объединить два крыла социал-демократической партии, и они поспешили вернуться в Петроград, чтобы окончательно примирить так называемых большевиков и так называемых меньшевиков.
Карахан задержался в Сибири, а Зиедонис ярким мартовским днем вместе с таким же недоучившимся юристом и сторонником единства социал-демократической партии Ираклием Церетели[iii] прибыл в столицу, и тот предложил Федору-Абраму встретить на Финляндском вокзале Плеханова.
ххх
Зиедонис был поражен грандиозностью события – казалось, весь Петроград под заревом красных знамен пришел приветствовать отца российской социал-демократии. Поезд прибыл ровно в полночь, и три оркестра разом грянули «Марсельезу». А когда высокая фигура Плеханова показалась из первого вагона, мощное «ура!» перекрыло мелодию революционного гимна. Георгия Валентиновича обступили со всех сторон, оттеснив от него даже собственную супругу. Только с помощью военных, сдерживающих толпу, престарелому, но все еще бодрому марксисту удалось пройти в здание вокзала, где в комнате, предназначенной для встреч царских особ, его ожидала делегация социал-демократов. Плеханов тепло обнялся с Верой Засулич, затем повернулся к седовласому грузину, тут же начавшему говорить заранее приготовленную приветственную речь. Он успел только назвать приехавшего своим учителем и от имени революционного народа выразить надежду на участие в работе исполкома советов, как Плеханов перебил его:
– Вы, кажется, Чхеидзе[iv]?
– Да, Чхеидзе, – подтвердил эсдек.
Они крепко пожали друг другу руки и тогда к нему подошли Церетели и Зиедонис. Первого Плеханов узнал сразу, а вглядевшись в лицо Федора-Абрама вынужденно признался, что, скорее всего, видит его в первый раз. Зиедонис заверил, что так оно и есть, после чего оба скрепили знакомство рукопожатием.
Покончив с приветствиями, Плеханов произнес короткую речь, назвав себя старым солдатом революции и заверив, что готов немедленно включиться в работу, вышел на улицу. Толпа тут же под громкое «ура!» подхватила его на руки и донесла до автомобиля, на котором он умчался в Таврический дворец на заседание Совета рабочих депутатов.
Церетели, прежде чем уехать вслед за Плехановым, попросил Зиедониса узнать, когда прибудет Ленин. Есть сведения, что ему вместе с соратниками удалось каким-то чудом проехать по территории вражеской Германии и теперь они находятся где-то на пути к Петрограду.
Зиедонис без труда отыскал своего знакомого токаря Сашу Шляпникова, который вместе с Церетели и Чхеидзе заседал в исполкоме Совета. Но он, будучи верным ленинцем, не хотел раньше времени раскрывать перед ними все карты. Шляпников тоже был за единство российской социал-демократии, но подчинялся большевистской дисциплине. Федора-Абрама он считал своим, а потому по секрету сообщил, что Ильич, по его расчетам, прибудет в ночь с 3 на 4 апреля.
ххх
И в ночь с 3 на 4 апреля Зиедонис все в той же царской комнате Финляндского вокзала вместе с теми же Чхеидзе и Церетели поджидал большевистского вождя, надеясь, что уж теперь, когда революция свершилась, русские марксисты разных фракций наконец-то протянут друг другу руки.
Все было почти как три дня назад. Толпа с красными знаменами, только не такая великая. «Марсельеза» по прибытию поезда, правда, оркестр всего один. Почетный караул из сухопутных солдат и матросов. а вот встреча в царской комнате получилась смазанной. Ленин, в отличие от Плеханова, не стал перебивать приветственную речь Чхеидзе, в которой тот призвал всех социал-демократов сомкнутыми рядами идти на закрепление сделанных завоеваний, но выслушал ее с полнейшим равнодушием. Руки он ему не пожал, а тут же отвернулся, что-то приветственное сказал в адрес рабочих делегаций и быстро вышел прочь.
Оскорбленный Чхеидзе уехал на автомобиле, приготовленном для большевистского вождя, а Зиедонис, сам не понимая зачем, двинулся вслед за броневиком, на котором ехал Ленин, благо бронированная машина шла не спеша, сопровождаемая толпой любопытных. Так Федор-Абрам добрался до особняка Кшесинской, где и встретил поджидавшего его Календера-Никодимуса.
Выступление большевистского вождя с балкона Зиедониса ошеломило. Этот картавящий политик явно не слыл хорошим оратором, но умел очаровывать. Впрочем, это не главное. Ленин призывал не к закреплению завоеваний недавно свершившейся революции, как другие лидеры, а к всеевропейской гражданской войне. И вспыхнуть она должна здесь, в России. Неужели это возможно?
Ответ дал сам Ильич, вновь показавшийся на балконе:
– Товагищи! Недалек тот час, когда по пгизыву нашего товагища Кагла Либкнехта нагоды мига обгатят огужие пготив своих эксплуататогов-капиталистов. Загя всемигной геволюции уже занялась. Не нынче, завтга – каждый день – может газгазиться кгах евгопейского импегиолизма. Гусская геволюция, совегшенная вами, положила ему начало и откгыла новую эпоху.
Рядом с Никодимусом и Зиедонисом оказался еще один бородатый солдат с винтовкой за плечами, только поменьше ростом, чем первый.
– Вот это человек! Нет, вы слышали, вот это человек! – восхищенно заговорил солдатик, подталкивая и того и другого, как бы приглашая их присоединиться к его восторгу.
Федор-Абрам кивнул в знак согласия. Никодимус, после того как Ленин вернулся в комнату, а бородач с винтовкой ушел, наскоро потер кольцо с изумрудиной и, приложив его к уху, принялся слушать, что происходит в верхнем этаже особняка. Услышанное его мало обрадовало. Оказывается, соратники большевистского вождя совсем не разделяют восторгов маленького солдата. Некто с грузинским акцентом уверял Ленина, что они пока в меньшинстве даже в Совете. На что выведенный из себя вождь кричал, что в самое ближайшее время надо сделать так, чтобы они стали там большинством, но уже сейчас надо выходить с лозунгом «Вся власть советам!».
Зиедонис вновь тупо уставился в землю, но неожиданно повернулся к Никодимусу и сказал:
– Знаете, товарищ Календер, есть такие вещества, внешне безобидные, но если их соединить, то происходит взрыв.
– К чему это вы, любезный Федор Моисеевич? – Никодимус убрал руку с кольцом в карман и уставился на Зиедониса, понимая, что он хочет сказать нечто очень важное.
– Ленин один не сможет ничего. Но если его соединить с Троцким, то взрыв обязательно случится.
Никодимусу идея понравилась.
– Вы сможете это сотворить?
– Думаю, да, – коротко ответил Федор-Абрам, прикидывая про себя, как это можно сделать.
ххх
Прибывший накануне Карахан сообщил Зиедонису, что Троцкого на пути из Америки в Россию задержали в канадском порту Галифакс по подозрению в связях с германской разведкой. Теперь надо поговорить с кем-нибудь из наших «межрайонцев[v]», например, с Юреневым[vi], чтобы они убедили Ленина выступить за освобождение Льва Давыдовича и его семьи, размышлял Федор-Абрам. Если Ильич напишет соответствующее обращение к канадским властям, то, считай, половина дела сделано. Люди невольно чувствуют симпатию к тому, кому они помогают. А уж те, кому помогли, тем более. Карахан сказал, что Троцкий не в восторге от свершившейся революции. Он, мол, всегда не в восторге от того, в чем сам не участвовал. И Ленин, как видим, тоже ей не рад. Рано или поздно, Троцкого отпустят, он вернется, «межрайонцы» с большевиками образуют единый кулак и тогда… Что будет дальше, Зиедонис думать себе не позволял. Незачем предаваться революционным мечтаниям. Задачи на ближайшее будущее понятны, а там видно будет.
– Вы успели повидать своих товарищей по кэртасу? – прервал размышления Зиедониса Никодимус.
– Нет, не успел. Они в Петрограде? Как у них тут дела?
– Дела у них замечательные. Брачишников теперь главный редактор «Петроградских вестей». Пишет статейки, отчаянно призывает великого князя Михаила принять на себя бремечко российской короны. Хе-хе! А наилюбезнейший господин Лукин ныне приват-доцент, преподает историю студентам. И, кстати, вступил в партию конституционных демократов, намеревается вместе с вашим приятелем Питиримом Сорокиным стать членом Учредительного собрания. Они – народные трибуны, речи произносят. Лукин женился, да и свадьба господина Сорокина не за горами.
Сорокинская свадьба
Лукин произносил тост, как речь на митинге. Последнее, видимо, вошло в привычку, но избавиться от нее было не так-то просто.
– Я этого молодожена знаю со студенческой скамьи, – отчаянно жестикулируя левой рукой, поскольку в правой он держал бокал с вином, громко говорил историк. – На протяжении всего нашего знакомства мы беспрерывно спорили о революции. Питирим, как социолог, видит ее причину в ущемлении рефлексов. Например, рефлексов питания, иначе говоря, голод. А я – историк, а потому всегда считал и считаю, что социальные потрясения возникают в период бурного натиска новых экономических сил…– Саша, миленький, опять ты про революцию, – перебил Лукина Каллистрат Жаков. – Мы же на свадьбе, а не на митинге. Давай-ка лучше про молодых.
– Про молодых я и хотел сказать, – немного смутившись, произнес Лукин. – Наша с вами революция случилась, когда приват-доцент Петроградского университета Питирим Александрович Сорокин переживал бурный натиск творческих сил. И ему ничего не оставалось другого, как совершить свою революцию, в личностном, так сказать, плане. И вот теперь, любезная Елена Петровна, придется вам самой сдерживать натиск его творческой энергии, направляя ее в нужное нам всем русло.
– Знаешь что, Сашок, я вовсе не собираюсь сдерживать революционный творческий натиск моего жениха, теперь уже мужа, – вмешалась в разговор Елена Баратынская, всего какой-то час назад сменившая фамилию на Сорокина. – Послезавтра я уезжаю на ботаническую практику в Тобольскую губернию. Буду изучать тамошние луга и поймы рек.
ххх

Питирим Сорокин
Скромная свадьба проходила в ресторане «Вена», расположенного на пересечении улиц Гоголя и Гороховой. Был светлый майский день. Посетителей, если не считать гостей свадьбы и виновников торжества, практически не было. По улицам пролетки стучали копытами лошадей и деревянных колес, солнце дарило легкое приятное тепло, общее настроение было самое, что ни на есть, радужное. Жених выглядел отменно – в белой рубашке со стоячим воротником под черным сюртуком и с «академическом» пенсне на глазах. Невеста же смотрелась куда как скромнее и даже аскетичнее. Никакой фаты и длинного белого платья – всего лишь светлая блузка в сочетании с юбкой-клеш. За столом, кроме Сорокиных, сидели еще две четы недавних молодоженов – Лукин с Анной и Жаков с молоденькой латышкой Алидой Приеде, ставшей месяц назад Жаковой. Плюс одинокий холостяк Брачишников. Все они были одеты также буднично, как и Елена.
ххх
– Пусть так. Но ведь ты, Леночка, и вы, Каллистрат Фалалеевич, согласитесь, что революция очень благотворно повлияла на матримониальные отношения среди людей. Прошло всего два месяца после февраля, а в нашем кругу – уже третья супружеская пара! Воистину, революция призвана создавать семьи, – парировал Лукин.
Он лукавил. Если женитьбе Сорокина на Лене Баратынской Лукин был искренне рад, то к своему собственному браку на Ане Оплесниной он отнесся с иронией. На этот отчаянный шаг он решился, чтобы забыть Райду, с которой, как он прекрасно понимал, свидеться ему уже не суждено. А потому, как только вся их компания выбралась из подземной империи и оказалась в Усть-Сысольске, сделал купеческой дочери предложение. Правда, ответа пришлось ждать три года – Аня согласилась стать его женой лишь после того, как поступила на историко-филогический факультет Петроградского университета. А скороспелый брак его учителя Сашу и вовсе огорчил. Ему не понравилась эта латышка с волевым подбородком и пухлыми щеками, и было очень жаль милую и веселую Глафиру Никаноровну. Правду говорят: седина в бороду – бес в ребро. Как только куцая бородка Гараморта побелела, он влюбился в свою ученицу.
– Одни семьи революция создает, а другие разрушает, – задумчиво произнесла Елена. – Мне Ольга[i] рассказала, как 27 февраля Саше Керенскому позвонили из Думы и позвали на срочное заседание. Он ушел и больше не возвращался. Говорят, у него в Зимнем завелась любовница.
– Мда, недаром его прозвали Александром Четвертым, – съязвил Брачишников.
– Кто прозвал, Коля? – злобно вступил в перебранку виновник торжества. – Жалкий репортеришко из твоих «Вестей», больше никто.
– Знаешь что, Пит, за такие слова вызывают на дуэль, – сердито огрызнулся журналист.
– Друзия, не нато ссориться, – коверкая русские слова, призвала Алида.
Разговор для Жакова принимал неприятный оборот. Он с горечью заметил, что в этом году повысился градус нетерпимости. Люди по любому поводу и без повода вступали в спор, который часто закачивался дракой, а то и убийством, если один из спорящих оказывался вооружен. К счастью, монархист Брачишников и социалист Сорокин оружия не имели, но испортить праздник могли
.– Милые мои друзья, мне очень жаль, что вы, забыв о своей миссии, заболели политикой, – поддержал молоденькую женушку Гараморт. – А она вас до добра не доведет.
– Простите, я погорячился. Но в чем же наша миссия, учитель? – поинтересовался Сорокин.
– У тебя, Пит, и у тебя, господин Лукин, миссия одна – это наука. Ей и только ей вы должны служить, конечно, не забывая про свои милейшие половинки. А вы, господин Брачишников, журналист. И ваш крест – просветительство.
– А разве нельзя совмещать и то, и другое, и третье? – возразил молодожен. – Мы живем в такое интересное время, что без политики не обойтись. Мы же хотим принести пользу своей стране.
– О-хо-хо! Поймите, дорогие мои, политика может быть как общественно полезной, так и общественно вредной. Сам политик думает, что он приносит пользу, даже если его деятельность только вредит. А вот наука и просветительство полезны всегда. Я ведь и сам переболел этой злосчастной болезнью в девятьсот пятом году. Вступил в Демократический союз конституционалистов. Потом переименовал его в Союз народной правды. Смех, да и только! А народ-то нас не поддержал. Я им говорил о Боге и о мире, а они спрашивали меня, почему у одних земли много, а у других мало. А я не знал, что ответить.
– Но мы-то знаем, – вновь возразил Сорокин. – Поэтому народ нас поддерживает. В нашей партии[ii] уже миллион человек. Такого нет ни у кадетов, ни у эсдеков.
– Пока поддерживает. Народ переменчив. Вчера он без устали славил царя, пел ему здравницы, сегодня он его ненавидит, а завтра найдет себе нового монарха.
– Конечно! Этим новым монархом будет Михаил, – вставил словечко уже забывший про нанесенное оскорбление журналист. – Русскому народу не парламент нужен, и не конституция, а твердая рука. Иначе разболтается, что он уже делает.
Неизвестно, чем бы закончилась дискуссия, если бы в нее не вступила Анна Лукина:
– Я считаю, что Каллистрат Фалалеевич прав. Вам, мужчинам, лишь бы поспорить, поругаться. А вот нам, женщинам, делить тут нечего. Наша дорогая Леночка – ботаник, изучает клетки. Алида осваивает философию, а я – историю. И мы не будет спорить, чья наука важнее, какую из них предпочитает народ. Не то, что у вас: Брачишников за царя, мой муж за конституцию, Сорокин за социализм. И вы никогда не найдете общий язык.
– Найдут, они непременно найдут общий язык, но только благодаря вам, женщинам, – обрадовался поддержке Жаков. – Так что давайте выпьем за милых дам, за наших жен и наших хранительниц!
Мужчины сами наполнили красным вином бокалы себе и дамам, почтительно поднялись со своих мест, чокнулись и выпили до дна. На свои стулья опустились все, кроме жениха.– Друзья мои, прошу меня извинить, я вынужден вас покинуть, – вытерев салфеткой губы, произнес Сорокин. – Меня ждет мой чешский коллега Томаш Масарик[iii] . Он намерен из пленных чехов и словаков сформировать отдельный корпус и бороться за независимость своей родины. И хочет, чтобы мы, эсеры, его поддержали, и мы его поддержим.
– Передай ему, что мы, монархисты, тоже его поддерживаем, и я лично готов взять у него интервью, – заявил Брачишников.
– А после него я еду в Зимний к так называемому Александру Четвертому. У него не хочешь взять интервью?
Брачишников вновь надулся и не ответил.
– Ну-у вот, какая же свадьба без жениха? – пробурчал Лукин.
– Революционная. Революционная свадьба может обойтись без жениха, – шутливо ответил Сорокин и похлопал друга по плечу.
– Пит, ты мог хотя бы на один день послать революцию к черту? – спросила Елена.
– Так и быть, вечером пошлю революцию к черту и вернусь к милой женушке. До скорых встреч, друзья!
После ухода новобрачного над столом зависло молчание. Гости стучали вилками по тарелкам, неохотно доедая закуски в ожидании горячих блюд. Первой заговорила невеста:
– Господин Брачишников, позвольте вас спросить кое о чем, не касающемся политики.Получив утвердительный ответ, она продолжила:– У нас тут три семейные пары. Правда, мой ушел, но он все-таки был. А вот вы почему до сих пор одиноки?
– Я был безжалостно отвергнут сестрой Ани Лукиной, – с обидой в голосе ответил журналист. – Ее звали Зинаида Оплеснина.
– Звали? Она что умерла? – удивилась Елена.
– Для меня – да, умерла. Мы перед самой войной приехали в Усть-Сысольск с Каллистратом Фалалеевичем, вашим мужем, Лукиным и Зиедонисом. Жили в доме купца Оплеснина. А у него три дочери и все красавицы. Одна из них перед вами. Ну, мы и влюбились. Во всех сестер разом. Причем в разных. Влюбились все кроме Пита и Каллистрата Фалалеевича. Потом мы отправились в экспедицию на Печору, а когда вернулись, то я и Лукин предложили девушкам руку и сердце. Зиедонис почему-то этого делать не стал. Аня, пусть не сразу, но согласилась, а Зина меня не захотела. Я теперь брошен, и никто меня подбирать не хочет.
– Вот не надо так говорить, господин Брачишников, – возразила Анна. – Никто тебя, Коля, не бросал. У тебя просто не хватило терпения. У моего Саши хватило, а у тебя – нет.
И вновь все замолчали, тем более что татарского вида официант в черном смокинге, из-под которого выглядывал белый фартук, принес горячие ароматные пельмени. От более изысканных буржуазных блюд Сорокины решили отказаться. Жаков тут же принялся объяснять своей латышской супруге, что само слово «пельмень» происходит от коми слова «пельнянь» и переводится, как «хлебное ухо». Зыряне и пермяне переняли секреты их приготовления от кочевых сибирских татар. Брачишников предложил мужчинам скинуться на водку, которая хорошо пойдет под «хлебные уши». Его поддержал Жаков, но отказался Лукин, сославшись на действующий с сентября 1914 года «сухой закон». Но согласилась его жена.
Представитель народа, подарившего зырянам пельмени, мигом обернувшись, принес графинчик «Смирновской» и быстро разлил его по принесенным вместе с «беленькой» граненым рюмкам. Елена Сорокина, глядя на растекающуюся по стопкам бесцветную жидкость, изъявила желание попробовать водку, дабы не отрываться от народа. Того же захотела Алида Жакова и, в конце концов, сдался Лукин. Официант обернулся еще раз, и вскоре вся компания подняла рюмки, чтобы выпить за окончание войны, не уточняя, каким образом это должно произойти.Выпили до дна, при этом Елена, поморщившись, пробормотала: «Фу, какая гадость!». Алида кивнула в ответ со словами: «Сокласна, точно кадость». Того же мнения был и Лукин, но виду не подал. У Анны, привыкшей к многочисленным излияниям в доме ее отца, водка легко вошла в организм. Жаков и Брачишников, соскучившиеся за последние годы по крепкому алкоголю, не скрывали своего удовольствия.
Захмелевшей Елене Сорокиной вдруг стало интересно: почему же влюбленный в Анину сестру Зиедонис, не позвал ее под венец? Религия не могла помешать – он принял православие.
– Понимаете, Леночка, женится тот, кто думает о жизни, строит планы. А Федя мечтает о смерти. Поэтому ему не нужны ни жена, ни дети, – пояснил Брачишников.
– Это что – он сам вот так и сказал? – удивилась Елена.
– Нет, но я умею читать его мысли, – похвастался журналист.
Новобрачная покачала головой, решив, что Брачишников просто неудачно пошутил. Ей и в голову не могло прийти, что он сказал это совершенно серьезно.
– Где же он сейчас, я что-то давно его не видел? – поинтересовался Жаков.
– Он в Петрограде, еще в конце марта прикатил из Иркутска, – ответил Лукин.
– Вы с ним встречались?
– Нет, я просто это почувствовал.
Своими странными ответами Лукин и Брачишников только нагнали туману, однако мозги всех остальных были тоже весьма затуманены, а потому они не стали задавать лишних вопросов. Когда Жаков предложил выпить за отсутствующих друзей, все охотно согласились, и таким образом была ликвидирована вся оставшаяся водка.
После второй рюмки Лукин впал в задумчивость. Он вспомнил, что давно не видел Зиедониса, да и Календер, то есть Никодимус, куда-то в последнее время пропал. Что же станет с кэртасом?
События последнего времени
Никодимус оглядел своими матово-белесыми глазами Славуса, Маркуса и Адамуса и задумчиво спросил:
– Почему же, любезные мои, вы считаете, что все пропало? Все идет так, как ему и следует идти.
Разговор происходил в землянке возле Серафимовского кладбища. Никодимус соорудил здесь свое жилище, когда никакого кладбища не было, но появление по-соседству могилок в 1905 году его вовсе не смутило. Маркус и Адамус поленились обзаводиться собственным, укрытым от глаз оламов жильем, но любили по любому поводу являться к своему соотечественнику. Здесь они чувствовали себя почти как дома.
– Я тоже считал, что все идет так, как и следует идти, да только Таракутто так не считает, – ответил на вопрос Никодимуса Маркус.
– Да что там Таракутто? Гуддим думает, что у нас ничего не вышло, – добавил Адамус. – А это значит – бери ниже – так думает сам Кор.
– Но как же так, как же так? – изображая нервозность, продолжил Никодимус. – Правитель России отрекся, империи уламов почитай больше не существует. Вы со своими чокорами сделали невозможное. Я и представить себе не мог, как так получилось.
Никодимус с грустью про себя отметил, что безбожно врет, хотя и дал себе зарок быть максимально правдивым. Но тут же успокоил себя, что врет-то не совсем. Эти уламы-полукровки сотворили действительно нечто невозможное. Они почти сумели воплотить в жизнь план «Омоль йором», который поначалу совсем не задался.
ххх
Когда в Уламколе получили по эфирной связи от Никодимуса сообщение о начале большой войны, Гуддим повелел Таракутто немедленно сформировать две группы для срочной отправки наверх. Юрадысь набрал первых попавшихся полукровок и уже намеревался поставить во главе этих чокоров многоопытных Адамуса и Маркуса, но Гуддим их отвел, считая, что пока они нужнее под землей и лично назначил им командиров – «прометеевца» Аникуса и Славуса из группы «Асклепий».
Выбор был не случайным. Группа «Прометей» к тому времени, пытаясь создать нечто подобное никодимусовской «изумрудине», сотворила смертоубийственный вочом. Это устройство с помощью луча могло запросто уничтожить человека с довольно большого расстояния. С какого точно, «прометеевцы» сказать не могли, поскольку подземная империя больших открытых расстояний не знала. Ученые мужи из «Асклепия» сумели выделить вещество из веселящих шаней, и на их основе сделать веселящий газ и веселящие напитки. Собственно, веселящего в них было одно название. В зависимости от дозы и разных добавок газы и напитки могли вызывать у людей разные мысли и эмоции. Испытания проводились на верах, рабах-оламах из самых верхних этажей. Никто из испытуемых не умер, но в ходе эксперимента они то смеялись, то плакали, то несли нечто бессвязное.
Полученное вещество тэдыши назвали, как и полагается, гажа.Чокоры Аникуса и Славуса снабдили как гажами различных концентраций, так и вочомами со смертоносными лучами. Задачу им поставили самую общую: Российская империя должна быть побеждена германскими и австрийскими оламами, государь-император уничтожен, и тогда за дело окончательного обрушения могучей страны возьмутся бунтовщики. Понятно, что двум чокорам с таким заданием не справиться, но они должны начать. Потом подоспеет подмога. Никодимуса вмешивать в это дело нельзя – он управляется лично Гуддимом, но встретиться с ним необходимо, дабы получить полезные советы. На все про все им дается срок один год. И пока не обрушится злосчастная империя никто из чэрыдеев не сможет вернуться в родную Уламколу.
Аникус и Славус были молоды и честолюбивы. Оба решили, что справятся за месяц – еще до того, как под землей сформируются новые чокоры. Они даже не захотели брать время для аккуратной адаптации к новым условиям, а сразу, появившись на высоком берегу Печоры, двинулись в путь. В итоге до Петербурга, еще не переименованного в Петроград, добралось чуть более половины составов – у Аникуса шесть человек, у Славуса – пять. Они отправились в большой наземный поход, одетые в тряпье, под видом каликов перехожих[iv], не зная, что такого рода странники перевелись еще в прошлом веке. Однако в селениях их привечали, кормили, они выводили нараспев вызубренные тексты духовных песнопений, которыми им снабдили «гиперионцы», а когда кто-то из чэрыдеев заболевал, не выдержав истязаний яркого солнца, крестьяне охотно оставляли их у себя, считая, что божьи люди принесут в дом счастье. Их матово белесые глаза говорили сами за себя – такими могут быть только странники, посланные Всевышним.
А вот на пароход их не пустили – своим видом они отпугивали пассажиров. Пришлось срочно принимать облик обычных крестьян, чтобы быть допущенными на палубу. В Котласе, строго следуя предписаниям Таракутто, они пересели в темно-серый вагон четвертого класса поезда, следующего в Петербург.
Вконец измученными они прибыли на Николаевский вокзал столицы империи, где их встретил Никодимус, снабдил дополнительно деньгами и отвез на пролетке на Сенную площадь, где располагался дешевый постоялый двор. Два дня несчастные полукровки приходили в себя. На третий Аникус и Славус, оставив своих подопечных, позволили себе выйти на свет божий.

Большой город накинулся на них людскими потоками, дребезжащими трамваями, фыркающими автомобилями и стуками копыт по мостовой. Среди этого шума они явственно слышали крики бегающих мальчишек: «Победа русских войск при Гумбиннене!», «Армия генерала Ренненкампфа преследует врага!», «Разгром восьмой германской армии не за горами!». К мальчишкам подходили прохожие и хватали большие листы, которые питерские оламы называли газетами. Чэрыдеи приобрели у юных питерцев сразу несколько газет, внимательно их изучили и поняли, что дело обстоит хуже некуда. Две русские армии вошли на территорию германских оламов, одна из них уже вступила в бой, разгромила врага и движется вперед, не встречая сопротивления. Другая идет параллельным курсом. Первой командовал генерал Ренненкампф, второй – генерал Самсонов. В статьях высказывались осторожные предположения, что в скором времени они войдут в Берлин и война завершится полной победой русского оружия.
На следующий день отдохнувшие и набравшиеся сил команды полукровок вновь встретились с Никодимусом среди деревянных крестов Серафимовского кладбища. Аникус и Славус изложили ему готовый план: надо пробраться в самое сердце армий Ренненкампфа и Самсонова, ликвидировать обоих генералов, приправить пищу других командиров гажами, а ежели удаться застать их на совещании, то запустить веселящий газ, который обязательно собьет их с толку. Они, правда, пока не решили, чей чокор отправится к Самсонову. Оба хотели расправиться с Ренненкампфом.
Никодимус лишь посмеялся над наивностью новичков. Ни один чокор не дойдет ни до какого штаба – а именно так оламы называют сердца воинских подразделений. Их поймают, обвинят в шпионаже и уничтожат выстрелами из винтовок. Найденные в заплечных мешках порошки и вочомы будут служить лишь доказательством их намерений. Славус ответил, что мол не надо их, молодых и боевых джынов, считать за полных дураков. Они все продумали. С Варшавского вокзала, как они имели возможность понаблюдать во время вчерашней прогулки, в сторону фронта отправляются в путь многочисленные эшелоны с военными оламами и большими орудиями. Им, невысоким и белоглазым уламам, не представит труда забраться в них, устроиться в самые темные вагоны, если надо, усыпить охрану. А еще лучше накормить их веселящими шанями, дабы развязать им языки, и узнать дорогу к этим самым штабам. Конечно, какую-то часть пути придется пройти пешком. Двигаться будут ночью, пользуясь своим чисто уламским зрением. Днем придется прятаться в лесах. Ориентироваться будут по обстановке. Верхний мир оказался не таким уж и страшным, как думают в Уламколе.
Никодимус хотел было ему возразить, но Аникус заявил, что этот план по эфирной связи они уже изложили Таракутте, и он этот план одобрил. Спорить было бессмысленно. Проблему, кому двигаться к Ренненкампфу, а кому – к Самсонову, по совету Никодимуса, решили с помощью ромашки, растущей у могилы некоего Авдея Петрова. Гадали на чокор Славуса – отрывали по лепестку, приговаривая: «Ренненкампф, Самсонов, Ренненкампф, Самсонов…». Выпало идти на Самсонова. Никодимус посоветовал обоим чэрыдеям постараться оборвать средства связи обеих армий. Эфирная связь у оламов еще не получила распространения, а потому командиры общаются друг с другом по телефону или телеграфу. Чтобы прервать их общения, достаточно перерезать лучом из вочома провода. Славус и Аникус поблагодарили за совет и покинули кладбище. Никодимус, пообещав ждать их на этом месте каждый полдень, начиная со следующей недели, долго смотрел им вслед, уверенный, что больше никогда их не увидит.
Он оказался прав, но лишь наполовину. В сентябре к Серафимовскому кладбищу пришел смертельно уставший Аникус со всем своим чокором. Вид этих «бойцов» был ужасен – одежда заляпана грязью и местами оборвана, раскрасневшиеся от солнечных ожогов лица не выражали ничего, кроме отчаяния. Оказалось, что вся группа каким-то чудом сумела на воинском эшелоне добраться до станции Фридланд, но куда им следует двигаться дальше, они не имели никакого понятия. Почти месяц чокор Аникуса бессмысленно плутал по германским лесам и болотам. Иногда темными ночами им удавалось скрутить кого-то из военных, но сколько бы они их не скармливали веселящими шанями, не окуривали веселящим газом, ничего толкового выведать им не удалось. Аникус рассказывал о своих злоключениях сбивчиво, постоянно теряя нить повествования. У Никодимуса создалось впечатление, что чэрыдей сам наелся веселящих шаней. Он говорил про страшные взрывы, полеты несущих смерть аэропланов над головами, беготню оламов и полное непонимание происходящих событий не только чэрыдеями, но и военными людьми.
Никодимус, в отличие от Аникуса, более или менее представлял, что творилось в восточногерманских землях. Что-то он знал из газет, что-то удалось подслушать из разговоров высших офицеров Генерального штаба, располагавшегося на Дворцовой площади. Картина для русских оламов выглядела удручающе. Катастрофа началась с того, что между корпусами армии Самсонова прервалась телефонно-телеграфная связь. Генерал вместо того, чтобы отправлять приказы через адъютантов, сам помчался на передовую, чтобы направить свой авангард на преследование отступающих немецких частей. Между тем командование Северо-Западным фронтом приказало армии Самсонова продвигаться навстречу Ренненкампфу. Но этот приказ не получили ни Самсонов, ни его штаб, поскольку связь с его армией тоже оборвалась. Между армиями возник разрыв, чем и воспользовались германцы, нанеся фланговый удар по армии Самсонова и окружив ее со всех сторон. Сто тысяч человек, оказавшись в «мешке», еще имели возможность прорвать окружение, однако внутри армии началась неразбериха. Войска были полностью деморализованы, приказы командиров противоречили друг другу, генерал Самсонов исчез. Итог был для русских оламов печален: десятки тысяч погибли, еще больше попали в плен.
Отныне Российской империи не стоило рассчитывать на скорую победу. Однако первую победу могла отметить Уламкола. Объяснить раздрай в армии Самсонова можно было только действиями Славуса и его чокора. Хотя никто так и не смог узнать, как полукровки попали на театр военных действий и что они там совершили – вся группа исчезла бесследно. Полгода каждый полдень Никодимус приходил к могиле Авдея Петрова, но Славус так и не явился. Последнее, что успел чэрыдей передать Таракутто по эфирной связи, были слова: «Мы сделали…». Что они сделали, навсегда останется загадкой, поскольку стало очевидным, что весь чокор пропал в лесах Восточной Пруссии. Может они утонули в болотах, может были убиты или угодили германцам в плен.
ххх
Гибель чокора чэрыдеев произвела на жителей Уламколы самое удручающее впечатление. Такого еще не случалось за все время существования подземной страны. Майбыр поспешил вновь потребовать отмены плана «Омоль йором».
Руководители всех групп тэдышей внезапно осмелели и в один голос заявили, что больше не отдадут на осуществление наземных авантюр ни одного ученого мужа, пусть даже полукровка. Гуддим же, напротив, струсил и твердо обещал больше никого, кроме Адамуса и Маркуса, наверх не отправлять. Даже тех, кого успели к этому подготовить.
Сам господин Календер посланий не получал. И в этом было его счастье, поскольку указания руководителям чокоров поступали от Таракутто самые противоречивые. Сначала им повелели как можно скорее ликвидировать государя-императора. И чокоры Аникуса и Адамуса принялись отслеживать маршруты перемещения царственной особы с тем, чтобы группа Маркуса с помощью луча из вочома завершила дело. План передали по эфирной связи Таракутто, но тот его отменил. Оказывается, это должно быть сделано только руками российских бунтовщиков. Аникус, Маркус и Адамус явились в подземное жилище Никодимуса, чтобы посоветоваться, и тот объяснил им, что дело это невыполнимое, поскольку все политические партии и группировки уже отказались от террора. Последней жертвой стал Столыпин, которого пристрелил науськанный Никодимусом бывший анархист Дмитрий Богров. Нынче же такого неврастеника найти сложно, да и если бы кто-нибудь отыскался, прикончить хорошо охраняемую царскую особу он все равно бы не смог.
После того, как все эти соображения были переданы Таракутто, террористы из подземелья получили новые указания. Чокору Маркуса поручалась ликвидировать царя своими руками, но лишь после того, как группы Аникуса и Адамуса сумеют устроить поражение Российской империи в великой войне. При этом никто из них не должен появляться на театре военных действий. И сделать это надо так, чтобы никто не узнал, чьих рук это дело. Русские оламы должны решить, что все вышло само собой, или, на худой конец, не обошлось без германских шпионов. То, что это совершенно невыполнимо, Таракутто, видимо, не волновало.
Адамус уже тысячи раз пожалел, что предложил Большому совету создать для войны с наземной империей несколько «кулаков», управляемых из-под земли. Там, в Уламколе, совершенно не представляли себе, что творится на земной поверхности. С такой головой даже самые сильные кулаки ничего сделать не способны. Гуддиму и Таракутто, видимо, представлялось, что достаточно накормить веселящими шанями весь Генеральный штаб, а для пущего эффекта напустить в здание на Дворцовой площади побольше веселящего газа, и дело будет сделано. А как накормить и как напустить – над этим просто не задумывались. При этом Таракутто не уставал в каждом своем сообщении напоминать, что пока план «Омоль йором» не будет выполнен, дорога в Уламколу для всех наблюдателей-полукровок будет закрыта.
Опять пришлось идти к многоопытному Никодимусу. Он посоветовал всем на время раствориться в Петрограде, обзавестись паспортами и поступить на работу. Одним махом Российскую империю не опрокинуть. Но Великая война затягивается, время еще есть, надо только дождаться подходящего случая. Никодимус сумел каким-то образом изготовить всем членам трех команд фальшивые паспорта. Оламские имена и фамилии он взял с могильных крестов Серафимовского кладбища. Шамис, молодой полукровка с черными кудрями из группы «Гиперион», получивший паспорт на имя Авдия Петрова, сумел устроиться чиновником в аппарат Государственной думы. Он даже сумел заслужить чин коллежского регистратора. Проникнуть в Генеральный штаб не удалось никому.
ххх
Подходящий случай наступил в декабре 1916 года после убийства Распутина.
Вездесущий Никодимус узнал о готовящемся злодеянии и попытался его предотвратить. На его совести уже имелось более двух десятков невинных жертв, включая Столыпина, и для ее очищения требовалось столько же жизней спасти. К тому же Распутин лучше всяких революционеров разлагал верхушку Российской империи. Но спасти старца не удалось. Появившись из-за стены подвала Юсуповского дворца, где все было приготовлено для встречи будущей жертвы, Никодимус сумел убрать отравленные цианистым калием вино и пирожные и заменить их безвредными аналогами.
Ближе к полуночи элегантный Феликс Юсупов под залихватскую мелодию марша «Янки-дудл», звучащую из граммофона на первом этаже, затащил обросшего бородой и волосами Распутина в тот самый подвал и оставил его одного. Старец с удовольствием проглотил пирожные, запив их любимой «Мадерой». Вернувшийся Феликс был крайне удивлен, увидев ненавистного проходимца живым и здоровым. Недолго думая, он выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в старца в упор, а затем, испугавшись содеянного, убежал вверх по лестнице. Появившийся из-за стены Никодимус застал Распутина лежащим, но живым. Пришлось его временно парализовать, после чего чэрыдей попробовал было извлечь пулю, но не успел – пришел Юсупов со своими сообщниками. И тут началась настоящая кутерьма. Как только заговорщики притронулись к телу старца, он поднялся, чем совершенно обескуражил убийц. Они, полные ужаса, побежали вверх по лестнице и выскочили во двор. Все еще живой Распутин поспешил за ними. Раздались выстрелы, и Никодимус понял, что старца все-таки убили.
Матерый чэрыдей не слишком огорчился своей неудаче. Каждый свой провал он засчитывал как новый опыт. Тем более что верхушка Российской империи прекрасно разлагалась и без Распутина, а его гибель взбудоражила общественность. Петроградцы желали перемен и были готовы к решительному напору. Их следовало только к этому подтолкнуть.
Адамус и Маркус тоже заметили, что к началу 1917 года градус напряженности в столице значительно вырос, и начали действовать. Аникусу Никодимус посоветовал срочно собрать свой чокор и исследовать железнодорожные пути, по которым идут в Петроград эшелоны с хлебом. Молодой чэрыдей, уязвленный своим провалом четырнадцатого года, резво взялся за дело. Под видом пассажиров, следующих в Москву и обратно, уламы-полукровки хорошенько обследовали Николаевскую железную дорогу, изучив маршруты хлебных поездов. Осмотрев рельсы, они заметили, что те сильно изношены, а потому не стоило больших трудов лучами из вочома повредить их в тех местах, где нет за ними должного наблюдения.
Результат превзошел их ожидания. Правда, повреждения в скором времени железнодорожники обнаружили, но на станции Малая Вишера возникло скопление железнодорожных составов. В первую голову по отремонтированной дороге пустили воинские эшелоны, а продовольственные поезда загнали на запасные пути.
Окрыленный успехом чокор Аникуса повторил этот трюк на других участках дороги, и к февралю весь Петроград покрылся хлебными очередями. Недовольные жители ходили от одной булочной или пекарни к другой с надеждой, что где-то все же будут продавать хлеб, и растущая прямо на глазах толпа породила в столице хаос и разбудила революционеров. На заводах и фабриках вспыхнули забастовки, улицы заполнили демонстранты, солдаты Петроградского гарнизона отказались стрелять в людей и подняли вооруженный мятеж. Через пару дней толпа с красными знаменами окружила Таврический дворец, где заседала изрядно перепуганная Государственная дума. Пока народные избранники решали, как успокоить столицу, Авдей Петров сумел заполучить по телеграфу царский указ с требованием Думу распустить. Прежде чем передать ее председателю Михаилу Родзянко, Шамис подпустил в зал заседаний немного веселящего газа.
Он оказал не совсем то воздействие, что ожидал молодой чэрыдей. Газ вовсе не затуманил мозги депутатов, а, скорее, их прочистил и придал отваги. Народные избранники решили не расходиться, а перейти в соседний полуциркулярный зал на частное совещание и там избрали Временный комитет во главе со все с тем же Родзянко, призванный навести в столице должный порядок.
Поздно вечером уставшие члены новоявленной власти зашли в буфет, дабы подкрепиться. К ним немедленно присоединился Авдей Петров и принялся угощать лепешками, якобы присланными его любимой бабушкой из далекого северного села Помоздино. Депутаты знали Авдея, как славного малого, а потому приняли угощение с удовольствием. Подкрепившись, они тут же, не покидая буфет, маленькими группками продолжили обсуждать ситуацию в стране и в Петрограде. Шамис незаметно подсел к столику, где устроились Родзянко и ярый монархист Шульгин, и, как бы невзначай, предложил им выпить деревенского сура, придающего изможденным мозгам новые силы.
Оба думца, почти не глядя, выпили по стакану освежающего напитка, и продолжили беседу. Разговор касался того, как уговорить государя-императора распустить правительство и признать Временный комитет легитимной властью. Авдей Петров не стал задерживаться возле них, но перед уходом кинул реплику: «Извините, что я вмешиваюсь, господа, но, по-моему, Николаю Второму давно пора в отставку. Что стоит вам, народным представителям, самим составить манифест об отречении и положить прямо ему на стол для подписания».
Сказав это, Шамис покинул буфет, предоставив событиям следовать своим путем.
А они не замедлили последовать. Чокор Аникуса намеревался остановить царский поезд, двигавшийся по направлению к взбунтовавшемуся Петрограду, но этого не понадобилось. Состав с государем-императором без их помощи застрял на станции Дно. А через сутки, уже в Пскове, Николай II подписал привезенный Гучковым и Шульгиным манифест об отречении.
Уламкола ликовала, как и петроградские рабочие, матросы, солдаты запасных полков и интеллигенты в длиннополых пальто. Гуддим лично по эфирной связи поздравил чэрыдеев с успехом, однако не стал торопиться с возвращением уставших чокоров на родину. Кто-то сообщил юрасю, что конец монархии еще не конец России, и уж тем более рано ставить крест на христианстве. Церкви переполнены людьми, службы продолжаются обычным порядком, не за горами избрание патриарха вся Руси. И пока эта ненавистная вера владеет умами жителей наземной империи, путь в Уламколу чэрыдеям заказан. При этом никаких указаний, как следует им действовать, ни юрась Гуддим, ни юрадысь Таракутто не давали. В ответ на запрос Адамуса, что же им предпринять, последовал краткий ответ: поступайте по обстановке.
ххх
– Вот так, Никодимус, не видать нам больше Уламколы, – мрачно подытожил Маркус. – Спалимся здесь под их проклятым солнцем.
– Лично я бы и не против здесь остаться, – сказал Адамус. – Тут так весело! Театры работают с прежним накалом, хотя уличные представления, которые они называют митингами, куда как интереснее. Но мне ребят жалко. Устали они, домой им пора.
– Что ж вы от меня-то хотите, любезные? – поинтересовался Никодимус.
– Мы хотим, чтобы ты заменил нам Таракутто, – ответил Маркус.
– Это как же так, друзья мои? Как же я могу смести с должности юрася и сам стать юрасем?
– А не надо никого сметать, – заверил Адамус. – Ты здесь стань нашим юрасем. Здесь все организуй так, чтобы мы выполнили этот чертов план «Омоль йором». Ты лучше нас всех разбираешься в обстановке. Руководи нами, и мы все будем выполнять твои указания так, как если бы они исходили от этого трусливого мудака Таракутто.
– Мы тебя очень уважаем, Никодимус, – включился в разговор Аникус. – У тебя и чудодейственный камень есть, и кэртас. Мы сделаем все, что ты скажешь. Наша Уламкола тебя не забудет и на века сохранит память о твоих заслугах.
– Память о моих заслугах, говоришь? Хе-хе! – усмехнулся Никодимус. – Не нуждаюсь я ни в чьей памяти, у меня своя собственная память еще сохранилась. Но руководство над вами, я так и быть уж, возьму, хотя и привык действовать лишь собственными силами. Послушайте теперь, что нам потребуется сделать. Перво-наперво, не допустить, чтобы российские оломы провели учредительное собрание. Помешать им собрать его мы не сможем, не в наших это силах, да и не надо. Что толку, если оно вообще не соберется? А вот если все-таки соберется да будет разогнано, то ведь это совсем другое дело.
– Постой, постой! Как это разогнано? – неожиданно вскипел Адамус. – Русские оламы помешаны на этом учредительном собрании. Кто ж его разгонит? Монархисты что ли? Так ведь тогда все вернется – империя, государь-император… Ты что-то не то задумал, Никодимус.
– Нет, любезные мои, я все то задумал. Не монархисты должны распугать депутатов, а сами революционеры. Вернее, самые нетерпеливые из них. Есть такие среди эсдеков и эсеров. Они прозевали революцию и теперь желают устроить новый мятеж. Поработайте с ними. А я устрою так, что на этом самом учредительном собрании соберется весь мой кэртас и сделает то, что должен сделать. Будут там знакомые вам Лукин, Брачишников и Зиедонис.
Новый мятеж
Расставшись в раздевалке с серым пальто с меховым воротником, Лукин с тяжелым сердцем вошел в переполненный разномастной публикой шумный купольный зал Таврического дворца и сразу обнаружил стоявших возле массивной белой колонны своих знакомых Брачишникова и Зиедониса. Первый был при параде – в выходной тройке и миниатюрной бабочке возле шеи. Федор-Абрам выглядел как его классовый противник – серо-зеленый френч, сапоги и красная повязка на рукаве. Между тем они мирно беседовали. Подходить к ним приват-доцент не поспешил. Он хотел разобраться сам с собой: кто он и зачем сюда пришел.
Вообще-то, приходить ему не следовало. Центральный комитет партии конституционных демократов принял решение, что поскольку их товарищи Шингарев, Кокошкин, Степанов и Долгоруков арестованы узурпировавшими власть большевиками, то кадеты не будут принимать никакого участия в работе Учредительного собрания, за которое они так ратовали с февраля прошлого года. А ведь он, Александр Лукин, мечтал об этом, как о манне небесной, еще со студенческих времен. И вот мечта сбылась – в Таврический дворец съезжаются народные представители со всех уголков бесконечно громадной России. Самое удивительное – у Лукина самого мандат члена Учредительного собрания. Об этом он в те давние годы и помыслить не смел. Но вместо радости народный избранник испытывал головную боль и гнетущую тревогу.
В последние месяцы он воображал, как гордо со своим мандатом он поднимется по ступенькам Таврического дворца, войдет в большой зал, разыщет предназначенное ему и только ему место и будет голосовать за учреждение новой, свободной и демократической, России. Но все вышло не так.Площадка перед дворцом была заполнена солдатней и матросами, а также артиллерийскими орудиями и пулеметами. Свободным оказался только узкий боковой проход, через который впускали после проверки документом. Лукин протянул солдатику в серой холодной шинельке и с винтовкой с примкнутым штыком свой мандат, тот внимательно его разглядел, а потом, смеясь, бросил одному из своих товарищей: «Гляди, Петрусь, кадетик приперся. Может отправить его к праотцам? А? Как ты думаешь?». Солдатик был явно пьян, хотя никаким перегаром от него не несло. Лукин был уже готов к тому, что этот злобный вояка пропорет ему живот, но тот все же депутата пропустил.
В купольном зале народные представители были в явном меньшинстве. Основную часть собравшихся представлял всякий сброд, большей частью морячки в тельняшках и бескозырках, которые они и не думали снимать, хотя находились в помещении. Почти все были вооружены – винтовками за плечами или наганами в кобуре, вели себя развязно и пьяно, шумели, что-то выкрикивали, в кого-то целились, но не стреляли.
Пока Лукин размышлял, стоит ли ему идти к товарищам по кэртасу, к нему самому подошел шапочно знакомый эсер Бондарев и спросил:
– Как вы думаете, коллега, большевики решатся нас сегодня разогнать?
– Решатся.
– Вы так считаете?
– Я так не считаю, я это знаю, – мрачно выдавил из себя Лукин.
– Откуда же, если не секрет?
На этот вопрос Лукин отвечать не стал. Не объяснять же такому, как и он сам, народному избраннику, что прибыл он сюда не только как член Учредительного собрания, но и по заданию кэртаса. И что ему предписано всячески содействовать тому, чтобы так лелеемый им орган народовластия был сегодня разнесен в пух и прах.
– Но ведь, по сути, это же новый мятеж! – не унимался Бондарев. – Это же объявление гражданской войны! Разве большевикам этого надо?
– Им именно этого и надо.
Общение с интеллигентным эсером усиливало головную боль, и Лукин, извинившись, покинул собрата по несчастью и направился в сторону Брачишникова и Зиедониса. Они оба были в приподнятом настроение.
– Вот, познакомься, Саша. Перед тобой новоявленный комиссар, командированный товарищем Урицким товарищ Федор Зиедонис, – весело, вместо приветствия, произнес журналист.
– С каких это пор Урицкий стал для тебя товарищем? – угрюмо поинтересовался Лукин. – Ты же за монархию.
– Монархию, Саша, мы проехали, – деланно вздохнул Брачишников. – А этот балаган, называемый учредительным собранием, надо распустить к чертовой матери. Этим займетесь вы с Федей, а я тисну классный репортажик об этом случае в «Известия»[v].
– Ты уже с советами подружился? Быстро же ты меняешь взгляды.
– Что поделать, «Петроградские вести» приказали долго жить. Но только ведь я ничего не меняю. Я по-прежнему считаю, что России нужная сильная рука, а не беззубое Временное правительство, совершенно справедливо сброшенное большевиками. И ты знаешь, мне нравится Ленин, а еще более – Троцкий, хоть он и еврей. За ними будущее, а я с теми, за кем будущее.
– Они арестовали Питирима Сорокина. Не знаю, каким будет их будущее, но аресты неугодных – их настоящее, – от возмущения у Лукина на какое-то время даже прекратилась головная боль.
– Сорокина арестовали по ошибке, – вмешался в разговор Зиедонис. – Я уже все объяснил Урицкому. Его освободят.
– Конечно, освободят – после того как вы разгоните Учредительное собрание. А Шингарева, Кокошкина, Степанова, Долгорукова тоже арестовали по ошибке?
Зиедонис ничего не ответил, а неожиданно направился вглубь зала. Лукин посмотрел ему вслед и увидел, как какой-то матрос приставил к виску депутата Бондарева револьвер и что-то ему говорит. Выстрелить он не успел. Подошедший Зиедонис резко убрал его руку от головы эсера, и матросик, как ни в чем не бывало, пошатываясь, пошел прогуливаться по залу. Вообще, как заметил Лукин, вся эта шантрапа вела себя совершенно неадекватно. Раздавались крики, что кого-то надо прихлопнуть, а кого-то – повесить. Почти все были пьяны, но алкогольных ароматов в воздухе не чувствовалось.
Пока Лукин разглядывал публику, к ним подошел невысокий человек с черными кудрями и слегка белесыми глазами.
– А это Авдей Петров, – представил Брачишников. – Работает в аппарате Учредительного собрания. Наш человек.
– Да-да, я ваш, – кивнул головой подошедший и вполголоса добавил: – Меня на самом деле зовут Шамис.
И в этот момент мозги Лукина прояснились. Он увидел, что среди разношерстной публики то тут, то там оказываются невысокие люди с матово белесыми глазами. Теперь стало понятным, почему солдатня и матросня ведет себя так странно – они объелись веселящими шанями. Стало понятно, как ультрарадикальные революционеры сумели расправиться с Временным правительством, как смогли остановить поезд с частями генерала Корнилова и многое, многое другое… Эти посланцы Уламколы методично уничтожают Россию, а он, Лукин, против своей воли призван им содействовать.От этих мыслей головная боль вспыхнула с новой силой, и Лукин, потирая виски отошел в сторону.
Авдей Петров осторожно тронул его за плечо и участливо спросил:
– Вам плохо? Могу дать немного веселящих шаней, это поможет.
– Спасибо, не надо.
– Да вы не беспокойтесь, я вам дам чисто лечебные, ваш ум они не затронут.
– Все равно не надо, – пробормотал Лукин. – Лучше скажите, почему до сих не начинают.
– Да, понимаете, две фракции – большевиков и левых эсеров – совещаются, – пояснил Авдей Петров. – А без них не будет кворума. Что ж тут поделаешь?
В конце концов, когда головная боль стала совсем нестерпимой, Лукин согласился на веселящие шани. Для этого ему вместе Авдеем Петровым пришлось заглянуть в столовую, где было также шумно, как и в купольном зале. Они уселись за стол, накрытый заляпанной грязью белой скатертью, заказали чаю, и Шамис кое-что прояснил мало понимающему в происходящих событиях историку. В защиту Учредительного собрания правые эсеры намеревались вывести Преображенский и Семеновский полки в сопровождении броневиков. Но чэрыдеи подсуетились и вывели технику из строя, а без нее солдаты выходить не решились. Тогда неугомонные социалисты собрали многотысячную манифестацию, но ее удалось остановить на дальних подступах к Таврическому дворцу. В думский зал будет пущен веселящий газ, а потому заседание пройдет весело. На Лукина газ не подействует, если он съест защитные шани. Такого рода противоядие приняли большевики и левые эсеры.
Слушая все это, Лукин хлебал чай, заедая его веселящими шанями, и они действительно довольно быстро оказали целительное действие, не задевая его сознания. Головная боль прошла, депутат по-прежнему контролировал себя, хотя ко всему происходящему стал относиться спокойнее.

Заседание началось с четырехчасовым опозданием и совсем невесело. Думский зал заполнялся медленно, а на хорах, беспрестанно крича и улюлюкая, уже толпилась та же публика, что задавала тон в Купольном зале. По бокам от трибуны стояли два матроса, перепоясанные пулеметными лентами.Предназначенные для кадетов места были свободными. Лукин, чтобы не сидеть в одиночестве, устроился поближе к правым эсерам и оказался рядом с Бондаревым. Кто-то с места, совсем рядом, выкрикнул, что пора открывать собрание и предложил это сделать старейшему члену фракции социалистов-революционеров Сергею Петровичу Швецову. С балконов донесся гогот, не помешавший, однако, грузному шестидесятилетнему бородачу уверенным шагом взойти на сцену и объявить заседание открытым. В ответ раздался настолько безумный гвалт, исходящий не только с балконов, но и с левой стороны зала, где разместились большевики и левые эсеры, что Швецову не оставалось ничего другого, как позвонить в колокольчик, призывая к порядку, а затем все же объявить перерыв.
Но на перерыв никто не ушел. На сцену легко взлетел прилизанный брюнет в пенсне, представившийся Яковым Свердловым, и объявил, что открывает заседание по поручению исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он говорил недолго, и его никто не перебивал. Вся его речь свелась к тому, что Учредительное собрание обязано признать советскую власть, все ее декреты и постановления.
– Вот она – мина, заложенная большевиками, – наклонившись в сторону Лукина тихо проговорил Бондарев. – Помяните мое слово, на том основание, что мы не приняли их предложения, они нас и разгонят. И стоит ли нам здесь оставаться?
– Стоит. Интересно же, как они это сделают, – прошептал в ответ Лукин, протирая очки.
Когда Свердлов закончил, перешли к выборам председателя, и эта процедура заняла не меньше двух часов. Хотя кандидатур было две, и обе от эсеров. Только от правых – опытный революционер Виктор Чернов, а от левых – бывшая террористка Мария Спиридонова. Но споры долго не утихали. В основном решался вопрос как голосовать: записками с именами кандидатов или шарами. Сошлись на последнем. Лукину не нравился ни один из кандидатов, но, решив, что именно так проголосовал бы его друг Питирим Сорокин, он опустил белый шар в пользу Чернова.
Лидер правых эсеров набрал большинство голосов, на что галерка ответила очередным ором. Чернов начал говорить под несмолкаемый гам и был не слишком убедительным. Лукину довелось однажды слышать этого революционера на митинге в поддержку Временного правительства. Он тогда сумел, несмотря на выкрики из толпы, зажечь народную массу, готовую тут же пойти, куда он укажет. На этот раз Чернов был не столь речист. Он вяло говорил о мире, о германском империализме, которому придется склонить голову перед демократической Россией и о тяге к социализму народных масс. Правые эсеры ему аплодировали, но их левые собратья, будучи малочисленными, но поддержанные галеркой, сумели перекричать председателя. И, как заметил Лукин, орали они не только в сторону трибуны, но и друг на друга. По всей видимости, на них не подействовало противоядие от веселящего газа или их просто забыли этим снабдить.
Пожалуй, Брачишников был прав, когда говорил об Учредительном собрании, как о балагане, подумал Лукин. Вот только кто виноват, что собрание народных представителей превратилось в фарс? На делегатов веселящий газ так подействовал, или они сами по себе оказались ни на что не способными?
Ораторы сменяли друг друга, одни говорили ярко, другие – блекло, кому-то позволяли сказать все, что он задумал, кого-то постоянное перебивали, грозили револьверами и винтовками. Лукин слушал их в пол уха, продолжая размышлять. Учредительное собрание состоит из одних социалистов. Монархистов нет совсем, а из либералов только он один. Казалось, социалистам надо радоваться. Им представился исторический шанс совершенно легитимно учредить социализм в огромной стране. Решайте же свои вопросы о земле, о мире, а не спорьте по частностям. Но вместо этого они орут друг на друга, размахивают револьверами, готовые прикончить оппонентов в два счета. Нет, никак невозможно этот балаган объяснить лишь действием веселящих газов. Зачем они арестовали социалиста Питирима Сорокина? Веселящими шанями объелись?
Весь прошлый год был сплошным балаганом, порою кровавым. А дальше будет больше. Радикалы возьмут верх и вряд ли успокоятся. Вся их идеология построена на ненависти, но пока эта ненависть была направлена на несправедливое устройство общества, им можно было сочувствовать. Вот только ненависть может породить лишь ненависть, хотя и другого сорта. Значит, кровавая баня неминуема. Россия умоется в крови, а затем последует новая кровь. И так до бесконечности. Как я могу во всем этом участвовать?
Ближе к полуночи объявили перерыв. В бурлящем купольном зале к Лукину подскочил всем довольный Брачишников:
– Нет, ну ты видел? – вопил журналист, стараясь перекричать толпу. – Ты видел? Россия окончательно вздыбилась, теперь только пушками ее можно усмирить.
Лукину не хотелось с ним говорить, и он пошел прочь сказав, что ему нужно в туалет. Действие исцеляющей шани прекратилось, головная боль возвращалась, и он уже стал подумывать, не пойти ли домой, к Аннушке, которую, как он только сейчас понял, любит всей душой. И все же уходить нельзя. Это могут расценить, как бегство крысы с тонущего корабля.
После перерыва на трибуну поднялся молодой человек в форме гардемарина, которого Чернов представил как Федора Раскольникова. Он объявил, что поскольку большинство Учредительного собрания не признает власть советов, то большевики его покидают. После этого часть депутатов под овации галерки и крики «Позор!» из зала дружно поднялась с места и ушла через задние двери. Примерно через час на сцене появился коротко стриженый очкарик Владимир Карелин и заявил, что Учредительное собрание не является отражением настроения и воли трудящихся масс, а потому фракция левых эсеров тоже удаляется. Еще одна часть депутатов последовала вслед за большевиками.
– Ну-с, теперь кворума нет, – не без грусти заключил эсер Бондарев. – Пора нас гнать поганой метлой. Кончилось народное представительство.
Однако никто никого не гнал. Галерка притихла, и оставшиеся депутаты принялись обсуждать проект закона о земле, составленного вполне в социалистическом духе – без права собственности на землю. Удалось подавляющим большинством голосов (против был один Лукин) принять пока шесть пунктов. А в это время Зиедонис разгуливал по притихшему купольному залу и решал непростую задачку: как тихо и бескровно прекратить работу Учредительного собрания. Возле одной из колонн он увидел прикорнувшего молодого матроса.
– Товарищ Железняков, – потрепал его по плечу Федор-Абрам. – Идите в зал, поднимитесь на сцену и скажите, что пора закрываться.–
А? Да, хорошо. А почему пора закрываться? – спросил матросик, протирая глаза.
– Скажите, что вы устали. Караул, мол, устал. Да и вам, депутатам, пора спать.
– Понял, товарищ Зиедонис.
Железняков возник на сцене в тот момент, когда Чернов зачитывал очередной пункт закона, гласящий о том, что пользователями землей, недрами, лесами и водами могут быть все граждане Российской республики. Матрос еще не отошел от сна, а потому заговорил негромко и неловко:
– Я тут получил инструкцию, чтобы все присутствующие, значит, покинули зал заседания, потому как караул устал.
Из зала раздались одинокие выкрики: «Не надо нам никакого караула!», «Чьи инструкции вы получили?», «От кого?»
– От товарища комиссара инструкции, – уже громче и уверенней произнес Железняков.
– Товарищ матрос, члены Учредительного собрания тоже очень устали, но никакая усталость не может прервать обсуждение земельного закона, которого ждет Россия, – примирительно произнес председатель.
– И все-таки я прошу немедленно всем покинуть зал.
Чернов объявил перерыв до 12 часов дня. Жалкие остатки депутатов медленно двинулись к дверям. У Лукина нестерпимо раскалывалась голова, но он твердо решил, что лучше сдохнет, но не будет жевать исцеляющие шани.
Зиедонис, протиснувшись через выходящих депутатов, прошел мимо своего товарища по кэртасу, занятый совсем другими мыслями. Он подошел к Чернову и негромко сказал:
– Господин председатель, вас у крыльца ждет автомобиль, но я вам настойчиво советую им не пользоваться. Там вас ждут убийцы. Выходите через боковую дверь.
– Спасибо, товарищ! – ответил Чернов и, пожав Зиедонису руку, прошел в купольный зал и затерялся в толпе.
К Лукину подскочил ничуть не уставший Брачишников.
– Поздравляю, Саша! Наша взяла! Да здравствует кэртас!
– Знаешь что? Иди ты к черту со своим кэртасом.
Натянув в раздевалке свое пальтишко с меховым воротником, Лукин вышел на темную промозглую улицу и заметил, что головная боль как-то сама собой исчезла. Пусть идут к чертям собачьим его старинные друзья, Никодимус и вся эта подземная Уламкола. Отныне ему с ними не по пути.
Те, с кем по пути
Никодимус сидел в старинном кресле с резными лакированными подлокотниками и с интересом разглядывал кабинет, никак не соответствующий железному нраву его нового хозяина. Особенно контрастировали с его обликом висевшие над роскошным камином часы, соединенные со статуями Купидона и Психеи.
Впрочем, обставлял кабинет не его нынешний хозяин, а тот, кто занимал всю квартиру несколько месяцев назад. Теперь же не только этот большой дом, но и во всю крепость в центре Москвы, называемую Кремлем, прибрала к рукам новая власть, как в годы смуты это сделал польско-литовский гарнизон, о коем Никодимус знал из книг, прочитанных им многочисленными ночами в многочисленных библиотеках. Все последние месяцы новые хозяева пребывали под дамокловым мечом, и их руки просто не доходили до реконструкции своих кабинетов под собственные вкусы. Сегодня, 6 июля 1918 года, дамоклов меч готов был сорваться на их головы, и никакая крепость не способна их защитить.
Долго рассиживаться в кресле не пришлось. Своим чутким ухом посланец Уламколы уловил твердые шаги по коридору квартиры ее владельца, затем скрип сапог, дверь раскрылась, и в кабинет вошел одетый в зеленый френч среднего роста человек с острой мефистофельской бородкой и вздыбленными волосами. Увидев Никодимуса, человек невольно вздрогнул, быстро достал из кармана и приставил к носу пенсне и вперился в непрошенного гостя присущим только ему, как бы исподлобья, взглядом.

Лев Троцкий
– Кто вам выписал пропуск, и кто открыл вам дверь, гражданин Календер? – резко осведомился новый хозяин кабинета.
– Любезный Лев Давыдович, при прошлой нашей встрече вы называли меня товарищем, – с некоторой обидой в голосе произнес Никодимус. – Разве с тех пор что-то изменилось? Разве я вам дал хоть один повод мне не доверять?
– Да, товарищ Зиедонис говорил, что вам можно всецело доверять, – немного смягчившись, сказал вошедший. – Но время такое, доверять никому нельзя.
– Я вас очень даже хорошо понимаю, товарищ Троцкий. Вас в очередной раз предали. Вас предали левые эсеры, которые поддержали вас в октябре прошлого года. Вас, как вы предполагаете, предал товарищ Дзержинский…
– А он действительно предал? – перебил Никодимуса Троцкий, задав нелепый, на первый взгляд, вопрос.
– Нет, знаете ли, не предал. Он пришел к Попову[vi], чтобы арестовать Андреева и Блюмкина[vii] за вероломное убийство германского посланника Мирбаха. А получилось так, что арестовали его самого.
– Вам это точно известно, товарищ Календер? – Троцкий продолжал сверлить Никодимуса пронизывающим насквозь взглядом, нюхом чувствуя, что тот знает больше, чем он, нарком по военным и морским делам. И даже больше самого Ленина.
– Я это видел своими глазами.
Норкомвоенмор уселся за стол и вновь через пенсне вперился в чуть белесые глаза Никодимуса, но тот не отвел взгляд.
– Вы уже и там побывали? – удивился Троцкий. – Почему я вам должен верить?
– Вы же мне поверили в октябре прошлого года.
– Пришлось поверить.
– И сейчас придется, любезный Лев Давыдович, – неожиданно мягко, с улыбкой, произнес Никодимус. – Вы же висите на тонкой-тонкой ниточке, которая вот-вот оборвется. Они уже заняли почту и телеграф – совсем как вы в прошлом годе. Телеграммы шлют, чтобы Ленину и Свердлову не подчинялись. Мартына Ивановича[viii] арестовали. На ЧК надежды нет. Комендантский полк, вами созданный для вашей же охраны, бежал позорно. А у Попова почти тысяча штыков и все против вас. И ваше спасение только мы и еще Вацетис[ix], коего ваши товарищи совершенно несправедливо кличут «жирным бурдюком».
– И все же – почему вы помогаете нам, а не им? Вы же не большевик. Или хотите им стать? Хотите власти?
– Что вы, что вы. Не надо мне никакой власти. Я не большевик, но я …из сочувствующих. А помочь хочу именно вам – потому как, ежели верх возьмут левые эсеры, то ведь ничего хорошего не случится. Они власть не смогут удержать. У них нет таких замечательных людей, как вы и Владимир Ильич. А ежели власть не удержат, так что же будет? Снова соберется учредительное собрание, так эффектно вами распущенное? А может и царя-батюшку вновь призовут? И товарищу Вацетису такой исход не нужен. Это ведь ничего, что он царский полковник и мечтает о независимости любимой Латвии. При царе его к стенке поставят, как предателя, а возлюбленную Латвию возвернут в Российскую империю. Поэтому полагайтесь смело на нас и на стрелков Вацетиса. Мы сделаем так, что Попов со своим отрядом далее никуда не двинется. Ну, скажем, до завтрашнего утра. А там, глядишь, латышские стрелки протрезвеют. Не век же им Янов день[x] праздновать?
Троцкий все же отвел взгляд от непрошеного гостя, чтобы тот не заметил его смятения. Стойкому революционеру было не по душе сознавать, что какой-то человечек, почти карлик, неведомо откуда взявшийся, дает ему советы. Однако нельзя было не признать его правоту. Как не крути, но план действий товарища Календера – единственный шанс на спасение.
– Я вижу, вы все еще сомневаетесь, любезный Лев Давыдович, – продолжал между тем Никодимус. – Боитесь, что мы замараем своим присутствием в истории славную идею мировой революции? Так вы не сомневайтесь, про нас никто никогда ничего не узнает. Не будет ни одного документа, ни одного свидетельства нашего участия. Нам это самим не нужно.
Слова про историю и мировую революцию больно резанули самолюбие Троцкого. Он порой боялся сам себе признаться, что очень желал бы, чтобы после того, как случится то, о чем он так давно мечтал, его имя в учебниках стояло если не первым, то хотя бы вторым – после Ильича. И уж совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь прознал о сговоре с какими-то карликами. Хватит клеветнических измышлений об участии в Октябрьском перевороте американских банкиров и германских спецслужб. Но почему-то очень хотелось этому человечку верить, что такого не будет.
– Хорошо, согласен. Но вы можете гарантировать мне, что если мы арестуем левоэсерских делегатов, то поповцы не начнут штурмовать Большой театр? – после небольших раздумий Троцкий начал составлять свой план действий, исходя из того, что сказал Календер.
– Конечно, товарищ Троцкий. Никто из них не покинет Покровских казарм. А те, кто захватили почту и телеграф, вернутся в казармы, да там и останутся. Все будет выглядеть так, что они вина и водки выпили чрез всякой меры. И их делегатами в Большом театре мы займемся, так что не извольте беспокоиться. Только отделите как-нибудь их от своих. Главное же, сами действуйте решительнее, а мы свое дело сделаем. Для верности отправьте Зиедониса комиссаром к Вацетису. Вы не хуже меня знаете, что Федор Моисеевич человек твердый, он-то уж точно не подведет.
– Но о вашем участии никто не должен знать, – на всякий случай напомнил нарком, уже уверовавший, что он один, без карлика, руководит подавлением мятежа.
– Разумеется, любезный Лев Давыдович.
– Я вам выпишу пропуск, чтобы вы смогли выйти из Кремля.
– Не тратте на это время, товарищ нарком. Сейчас каждая секунда на вес золота.
С этим словами Никодимус удалился. Оказавшись на набережной Москва-реки он почувствовал нестерпимый жар от клонившегося к закату июльского солнца и решил отправиться домой, в свое новое подземное жилище возле Востряковского кладбища. Собственно, он свое дело сделал, а потому можно предоставить событиям идти своим чередом. Отрядом матроса Попова займется чокор Маркуса. Группы Аникуса и Адамуса еще в Петрограде. Первый парализует петроградских мятежников, а второй постарается убедить успевших воспеть большевистскую революцию своих друзей поэтов в том, что левые социалисты-революционеры на самом деле контрреволюционеры и служат буржуазии. От кэртаса – жаль, очень жаль – откололся Лукин. Но Брачишников всегда готов к бою своим пером. Он изобличит в «Известиях» «контрреволюционных» бунтовщиков. Труднее всего будет Зиедонису. Привести в чувство отряд пьяных латышей и направить их винтовки против вчерашних собратьев надо еще суметь. Но Федор-Абрам сумеет.
Что сумел и не сумел Федор-Абрам
Сколько можно приводить в чувство пьяных латышей, размышлял Зиедонис, отвернувшись от палубы и глядя на отступающий берег жалкого Усть-Сысольска, в который его занесло уже в третий раз. Пароход «Доброжелатель» дважды густо прогудел и тяжело захлопал по речной воде, таща за собой плоскую баржу, груженную лошадьми, сеном, пулеметами и ящиками с патронами. Впереди, на палубе, над самым носом корабля стоял и болтал о чем-то с барышней в изящной шляпке и кожаной куртке высокий худощавый человек в серо-зеленом френче, узкой черной бородкой и кожей на сидячем месте. Чем-то он был похож на Федора-Абрама, но в чем-то прямо противоположен. Зиедонис предпочитал молчать и думать, а этот человек думать не привык, зато много действовал и много говорил, причем на очень плохом русском языке. Это был бывший актер, бывший офицер австро-венгерской армии, бывший пленный, наконец, бывший австрийский еврей, а ныне страстный интернационалист Мориц Мандельбаум. Рядом находилась его верная подруга и соратница Вера Гребенкина, бывшая проститутка, подобранная им где-то в Поволжье.
В ходовой рубке рядом с рулевым стоял и указывал, куда плыть, пышно усатый балтийский матрос Иван Андрианов. Большую часть палубы занимала расположенная на массивных колесах скорострельная полевая пушка «Маклин». Возле нее на скамеечке сидели и играли в карты на лафете шесть человек в водевильном гусарском одеянии. Это и были те самые латыши, успевшие перед отплытием реквизировать и принять на грудь значительную дозу деревенского самогона. Остальная часть отряда разбрелась по каютам. В трюме томились обреченные на смерть три ни в чем неповинные женщины.
ххх
Эту, не предвещавшую ничего хорошего, экспедицию задумал и принялся воплощать сам Зиедонис по подсказке Никодимуса. Пронырливый чэрыдей сумел разнюхать, что далеко на севере, в деревне Ляпино Печорского уезда, скопилось более двухсот тысяч пудов хлеба. Его большевики умудрились закупить в обмен на сельскохозяйственную технику у своих врагов – Временного Сибирского правительства. Хлеб надо срочно вывезти в село Троицко-Печорск и распределить между северными уездами, где уже установлена советская власть. Однако истинная цель вояжа Федора-Абрама была совсем иной. Неподалеку от Ляпино возле реки Щекурья имелся вход в Уламколу. В самой деревне проживает чэрыдей по имени Трофимус, который сопроводит Зиедониса в подземную страну и устроит ему встречу если не с самим Кором, то хотя бы с Гуддимом.
Большевистская власть держится на честном слове: в Архангельске высадился англо-американский десант, на юге Добровольческая армия захватила Екатеринодар, взбунтовавшийся Чехословацкий корпус ликвидировал красные советы на огромном пространстве от Волги до Тихого океана, в Казани в руки белогвардейцев попал золотой запас России. Когда советская власть обвалится, Российская империя, возможно в республиканском варианте, воскреснет из праха, подобно древнегреческой птице Феникс, о которой много веков назад поведал уламам незабвенный Льюис. Чтобы не рухнули надежды Кора и Гуддима на ниспровержение российского христианства, нужна их безотлагательная помощь. Какая именно – это Зиедонис должен решить сам вместе с соправителями.
О застрявшем хлебе Федор-Абрам лично доложил Троцкому, и наркомвоенмор поручил Зиедонису сформировать отряд для экспедиции на Крайний Север. Ему предстояло не только доставить в нужное место хлебные обозы, на которую уже положили глаз архангельские белогвардейцы, но и установить на Печоре устойчивую советскую власть. Увы, формировать отряд было практически не из кого. Все здоровые силы уже брошены на разные участки разбушевавшейся гражданской войны. Пришлось подбирать жалкие остатки – шестерых проштрафившихся латышских стрелков, двух бывших немецких пленных и трех китайцев. С такой шелупонью Зиедонис прибыл в Котлас, где командующий войсками Анатолий Геккер по слезной просьбе Федора-Абрама пополнил его отрядик еще тремя бывшими пленными венграми и дал в помощники опытного вояку Мандельбаума. Понимая, что с таким составом нечего и думать о противостоянии белогвардейским частям Верховного управления Северной области, Геккер посоветовал для усиления отряда набрать по ходу дела добровольцев.
В Усть-Сысольск они прибыли на реквизированном «Доброжелателе», а пока плыли Зиедонис и Мандельбаум, по инициативе Федора-Абрама, поменялись ролями. Посланник Троцкого пояснил австрийцу, что в Ляпино ему придется отлучиться для выполнения некоего особого и совершенно секретного задания, а потому было бы лучше, чтобы именно Мандельбаум стал во главе отряда.
Австрияк-интернационалист этому был только рад. Правда, говорил он по-русски из рук вон плохо, поэтому общаться Зиедонису пришлось с ним на идише, что было не так уж страшно – бойцы не понимали, о чем договариваются их командиры, а потому предпочитали только подчиняться.
В зырянском городе Мандельбаум решил продемонстрировать свою сноровку и преданность делу революции. Вместе с Верой и Федором-Абрамом он поднялся по пыльной Трехсвятительной улице до указанного Геккером дома, красовавшегося среди серых пятистенок. Богато декорированное бело-желтое здание смотрелось так, будто его вырвали из Петрограда и перенесли в убогий Усть-Сысольск. На первом этаже располагалась аптека, в которую можно было войти через центральную дверь. Но вся троица, следуя инструкции, зашла в дом через боковой вход, ведущий на второй этаж. Бывший австрияк заглянул в первый попавшийся кабинет и, увидев сидящих друг против друга за столом матроса и священника с седой неряшливой бородой и большим серебряным крестом на груди, произнес:
– Нам нато искать тофарищ Андриянов.
– Зачем вам его искать? Это я – Андриянов, – матрос поднялся из-за стола. – А вы сами кто будете?
Федор-Абрам узнал попа, но на всякий случай спросил:
– А вы, если не ошибаюсь, Дмитрий Яковлевич Попов?
– Не ошибаетесь, товарищ Зиедонис, – кивнул священник. – А мы вас заждались.
В мирно начавшуюся встречу внесла нотку раздрая Гребенкина.
– Я не понимаю, что здесь делает служитель церкви? – громогласно выпалила бывшая проститутка, расстегивая кобуру. – Нам сказали, что здесь располагается большевистский штаб, а не богадельня. Или мы не туда попали?
– Не волнуйтесь, гражданочка, Дмитрий Яковлевич наш красный поп, – добродушно произнес Андриянов. – Сана его лишили, но рясу он носит, чтобы народ его лучше понимал. А мы тут обсуждаем, что делать с левыми эсерами. Отец Дмитрий тоже из них. И вот он полагает, что надо им всем дать конкретную и полезную работу. А я вот считаю, что их следует отправить куда подальше…
– Можно сделать то и другое. Запишите их всех в наш отряд, нам очень людей не хватает, – предложил Зиедонис.
– А что – здравая мысль, – отметил бывший священник и пропел густым басом: – О, дайте, дайте нам свободу! Мы свой позор сумеем искупить.
После такого причудливого знакомства, разговор перешел в конструктивное русло. Взяв стулья, вся прибывшая троица уселась рядом с Поповым и Андриановым и принялась обсуждать свои дальнейшие действия. Ситуация в уезде складывалась весьма взрывоопасная. В деревне Граддор, что в тридцати верстах от Усть-Сысольска, убили коммуниста-большевика и агитатора Арсения Сивкова. Мандельбаум с Гребенкиной изъявили желание немедленно вместе с Андриановым отправиться в Граддор и разобраться с тамошней контрой. Решили, что Зиедонис с Поповым останутся в городе и приступят к набору добровольцев.
Бывший матрос, бывший австрияк и бывшая проститутка, раздобыв где-то тарантас, отправилась в неведомую им самим деревню, а Федор-Абрам и Дмитрий Яковлевич двинулись по направлению к реке. Встречая по пути мальчишек, «красный поп» давал им по пятаку и наказывал бегать по дворам и объявлять, что в клубе «Звезда» проводится набор добровольцев для борьбы с белыми бандами на Печоре. Всех, кто записался, будут хорошо кормить, а тех, у кого есть грешки перед новой властью, ждет прощение. Когда Зиедонис с Поповым пересекли улицу Спасскую, Федор-Абрам, посмотрел в сторону дома купца Оплеснина и поинтересовался, где сейчас его хозяин. Оказалось, что этот особняк, как и другие жилища купцов, национализирован. Там сейчас действует рабочая столовая. Сам Оплеснин бесследно исчез, о его дочерях почти ничего неизвестно. Только Анна вроде бы обитает в Петрограде, будучи замужем за молодым профессором. Зиедонис не стал уточнять, что «молодой профессор» на самом деле пока еще приват-доцент, и его фамилия Лукин.
Клуб «Звезда» расположился в одноэтажном строении, совсем недавно принадлежавшем купцам Дербеневым. Они держали магазин, в коем можно было купить мебель, мануфактуру и иконы. Новая власть купцов выселила, магазин закрыла, тем более что горожанам в это голодное время мебель и мануфактура были без надобности. Контору приспособили под штаб Красной армии, а торговый зал превратили в клуб. В этом помещении за бывшим прилавком и расположились Зиедонис с Поповым, чтобы записывать добровольцев. И в скором времени к ним выстроилась очередь. То ли желающих повоевать, то ли голодных и грешных перед новой властью людей оказалось слишком много, за два дня записалось более сотни добровольцев, после чего набор пришлось прекратить. Первыми в списке оказались пятнадцать левых эсеров.
В это время Андрианов, Мандельбаум и Гребенкина наводили в Граддоре порядок. Какой именно, для Зиедониса осталось неведомым. На следующий день они поехали назад. По дороге балтийский матрос похвастался, что именно он установил в Усть-Сысольске большевистскую власть. До него исполком местного совета был беспартийным. И когда туда обратилась купчиха Кузьбожева с просьбой вернуть принадлежащую им землю в деревне Човью на условии, что она сама с детьми будет ее обрабатывать, им не отказали. Что, конечно же, вызвало совершенно справедливый классовый гнев безземельных крестьян. Они явились в имение купчихи в Човью, изрядно побили ее и детей – а как же без этого? Выгнали эту семейку из дома, но тут явилась-не запылилась усть-сысольская милиция. Мятежников арестовали, имение вернули прежней владелице. Кстати, красивый двухэтажный дом в Усть-Сысольске, где с Андриановым встретились товарищи Мандельбаум, Гребенкина и Зиедонис, тоже когда-то кровопийцам Кузьбожевым принадлежал. Это они построили себе хоромы, где сейчас в силу закона справедливости обитает советская власть, ставшая большевистской.
А как это произошло? В город из Архангельска прибыл по пути красный отряд под командованием большевика Степана Ларионова, чтобы биться с белыми бандитами на Печоре. Тут бы товарищу Ларионову понять, что к чему, но он поначалу поверил исполкомовцам и принял сторону замшелой контры. Но в это время в Усть-Сысольск на пароходе «Социализм» приплыл балтиец Андрианов для контроля над военно-речными перевозками. Он быстро во всем разобрался, поговорил с Ларионовым, и они порешили собрать уездный съезд советов и всю контру по-большевистски выместить поганой метлой.
Съезд в целом прошел неплохо, Андрианов на нем председательствовал. Вот только левые эсеры воду мутили. Их в Москве уже к ногтю прижали, а в Усть-Сысольске они выступили против комитетов бедноты. А как еще прикажете бороться с врагами трудового народа? Потом, конечно, они раскаялись. И вот Андрианов с «красным попом» Поповым думали, а не присоединить ли их к отряду товарищей Зиедониса-Мандельбаума. Пусть на деле докажут свою приверженность к новой власти. А товарищ Зиедонис просто-таки угадал их мысли.
Мандельбаум осведомился, где сейчас обитает купчиха Кузьбожева. Оказалось, что все еще в своем имении в Човью. Австрияк-интернационалист решил, что это непорядок, и предложил, не заезжая в город, проследовать в это кулачье гнездо. Так они и сделали.
В большом доме они застали старуху Надежду Кузьбожеву, ее дочь Нину и внучку Рину Макарьину. Мандельбаум потребовал немедленно отдать им всех имеющихся лошадей и весь имеющийся овес для прокорма. Купчиха попыталась что-то возразить, но Андрианов с Гребенкиной вытащили револьверы и силой загнали женщин в их собственную повозку и увезли в Усть-Сысольск. В тюрьму их помещать не стали, а сразу спустили в трюм «Доброжелателя».
Зиедонис, узнав о происшедшем, недовольно поморщился. Он, конечно, понимал, что революцию нельзя делать в белых перчатках. Объявленная товарищем Свердловым политика «красного террора», о чем Федор-Абрам узнал из местной газеты «Зырянская жизнь», жестокая, но необходимая в сложившейся ситуации мера. Но почему в Усть-Сысольске начали с безоружных и беззащитных женщин?
Накануне отплытия Мандельбауму стукнула идея разодеть весь отряд в единую форму. Андрианов ему сообщил, что, по его сведениям, на окраине города находится цейхгауз с обмундированием царских времен. Недолго думая, австрияк-интернационалист собрал весь личный состав своей команды и явился вместе с ним к указанному зданию. Большой амбарный замок сбили прикладами, открыли двери и обнаружили, что весь склад забит гусарской амуницией. Мандельбаума это не смутило, и он приказал всем облечься в оранжевые рейтузы и куртки-доломаны. Первыми примерили необычные костюмы венгры. Им они напомнили далекую родину. Затем с неохотой напялили на себя диковинное обмундирование немцы и латыши, а также несколько усть-сысольцев. Левые эсеры заявили, что принимать участие в маскараде отказываются. Не стал расставаться с тужуркой и тельняшкой Андрианов, согласившийся присоединиться к отряду на правах помощника командира.
Зиедонис, увидев во что превратился собранный им отряд, подумал, что в таком карнавальном наряде впору участвовать в Бородинской битве, а не в сражениях с белыми на далеком Севере, но промолчал. На кону было спасение советской республики, а не только застрявшего где-то хлеба. На хлеб сгодятся и «красные гусары».
ххх
Через час после отплытия на правом берегу Вычегды показалось небольшое живописное селение с деревянной церковью. Мандельбаум приказал на всякий случай пульнуть по селу из «Маклина» и пристать к берегу. «Доброжелатель», прошуршав носом по прибрежному песку, остановился. Два «гусара» с шумом сбросили трап, по которому первыми, слегка подпрыгивая, спустились австрияк-интернационалист и Вера Гребенкина. На берегу начали скапливаться напуганные взрывом сельчане. Мандельбаум выступил перед ними с краткой речью:
– Фам фсем не боятца. Мы фам нести сфободу. Мы стрелять ф фрагов революции.
Пока он говорил, «гусары» вывели из трюма арестованных женщин и приказали им спускаться по трапу. Первой двинулась закутанная в цветастый платок полноватая старуха с совершенно остекленевшими глазами. За ней, постоянно оглядываясь, последовала ее дочь. Последней сбежала на берег девчонка лет семнадцати в сиреневом платье.
Неторопливо спустившийся по скрипучему трапу Андрианов приказал «гусарам» отконвоировать арестованных на полянку за пределами села. И только там обреченные женщины с ужасом осознали свою участь. Нина горько зарыдала, приговаривая: «Пожалейте нас. Ну что вам стоит? Пожалейте. Мы будем делать все, что скажете. Хотите, будем окопы рыть, будем трудиться. Зачем нас убивать?». Старшая купчиха не проронила ни слезинки, но забормотала: «Деток не убивайте. Прошу вас. Деток не трогайте. Меня убейте, если вам надо, но девочек незачем». Молчала лишь младшая Рина.
Первой, чтобы не выла, Андрианов пристрелил из маузера среднюю Нину. Когда женщина рухнула на мокрую от прошедшего накануне дождя траву, купчиха громко завыла и упала на труп дочери, целуя ее еще не остывшее лицо. Матрос еще одним выстрелом прервал и эту сцену. Когда к ним подошел задержавшийся на корабле Зиедонис, Андрианов стоял перед молоденькой девицей, направив к ее лицу револьвер, и соображал: сейчас ее кончить или перед этим попользоваться ее телом. Все равно уж ей пропадать. Девушка же смотрела на матроса, не мигая. Однако, не выдержав напряжения, она бросила палачу в лицо: «Чего смотришь? Стреляй!».
У Зиедониса что-то екнуло в сердце. Своей готовностью умереть она напомнила ему Дору Бриллиант, хотя внешне была совсем на нее не похожа. Федор-Абрам быстрыми, но ровными шагами подошел к матросу и отвел маузер в сторону.
– Детей убивать не обязательно, – негромко проговорил Зиедонис.
– Как скажете, товарищ командир, – пожал плечами Андрианов, убирая маузер в деревянную кобуру.
Подошел Дмитрий Попов, уговоривший накануне Федора-Абрама подбросить его до родного Деревянска, где он намеревался в одиночку установить советскую власть. Не сказав ни слова, "красный поп" перекрестил расстрелянных женщин. Но этого ему показалось мало, и он снял с себя крест и положил его на грудь старой купчихи.
Зиедонис оглянулся и увидел, что неподалеку, боясь приблизиться, стоят несколько местных крестьян и крестьянок. И среди них он разглядел Зину Оплеснину – ту, что некогда пронзила его сердце. Он скорым шагом подошел к ней, хотел поздороваться, но она его опередила вопросом:
– Что же вы творите, Федя?
Зиедонис промолчал, понимая, что ему совершенно нечем оправдаться. Тогда он задал встречный вопрос:– Твой отец жив? Он с вами?
– Ты хочешь и нашу семью отправить на тот свет? Мы же тоже купеческого сословия. Как и Кузьбожевы.
Зиедонис помолчал, а затем твердо произнес:
– Вот что. Похороните женщин, а девчонку пристройте куда-нибудь. А я позабочусь, чтобы твоего отца не тронули.
Сказав это, Федор-Абрам быстро зашагал в сторону села, куда до этого направилась ненаглядная парочка Мандельбаум-Гребенкина. Кто знает, сколько «врагов революции» отыщут они в этом мирном селении. Может уже до бывшего купца Оплеснина добрались.
ххх
Через час Зиедонис вернулся на пароход. За это время он убедился, что, по счастью, безумный австрияк и бывшая проститутка никакой контры не обнаружили, местные крестьяне были совершенно бедны, так что реквизировать у них было нечего. А селение называется Озел, что в переводе с зырянского означает земляничное озеро.
В своей каюте, расположенной в носовой части корабля, Федор-Абрам застал вжавшуюся в комочек в углу постели Рину. Поначалу он решил, что девчонка пришла поблагодарить его и скоро уйдет. И подумал, как бы ее поторопить, поскольку «Доброжелатель» вот-вот отчалит. Но она и не думал этого делать. Тогда Зиедонис спросил сам:
– Зачем ты здесь?
– Я хочу посмотреть, кого вы еще убьете.
– Немедленно вставай и убирайся.
Рина не шелохнулась. А пароход между тем издал тревожный гудок и отвалил от берега. Федор-Абрам с тоской подумал, что отныне он несет ответственность за эту девицу.
– Ты готовить умеешь? – тяжело вздохнув, спросил Зиедонис.
– Хотите, чтобы я палачей моей бабушки и тети кормила? – догадалась Рина.
– Надо же как-то оправдать твое присутствие в отряде.
ххх
Вечером, когда большая часть участников экспедиции собралась в столовой в кормовой части корабля, Зиедонис появился вместе с Риной и объявил, что взял ее в качестве поварихи. «Гусары» и прочая публика отнеслись к этому с пониманием. Товарищ командир обзавелся временной женой. Что ж, дело житейское. Товарищ Мандельбаум давно уже с Гребенкиной путешествует. Правда, на Рину глаз положил Андрианов, но Зиедонис выше по статусу, ему положено.
Утром следующего дня «Доброжелатель» прибыл в Деревянск. В этом селе Андрианов обнаружил давно им разыскиваемого служащего Усть-Сысольского уездного продотдела Алексея Лыткина. Балтиец был уверен, что он служит делу контрреволюции. Мандельбаум собрался было его расстрелять, но вступился Дмитрий Попов. Он заявил, что отныне именно он представляет здесь советскую власть, а потому сам лично разберется с контрреволюционно настроенным сотрудником. Австрияк-интернационалист нехотя согласился, но конфисковал у Лыткина семнадцать кусков ткани, пять фунтов чаю и тринадцать дюжин ниток.
ххх
Вечером отряд доплыл до Ульяновского монастыря. Пока Зиедонис беседовал с настоятелем, уговаривая того помочь им в трудном походе в далекие чащобы Севера и снабдить их деньгами и продуктами, Мандельбаум с «гусарами» устроил обыск и конфисковал у монахов двух коров, трех лошадей, пуд масла, церковное вино, которое тут же было выпито, а также десять пар обуви, перины и подушки.
Животных погрузили на баржу и поплыли дальше до Керчомья, где пришлось задержаться на несколько дней. В этом селе накануне неизвестными лицами был убит секретарь волостного исполкома. Мандельбаум с Гребенкиной, Зиедонис с Риной, которую он опасался оставлять одну, и Андрианов, взяв с собой по парочке гусар, разошлись по избам, дабы как следует допросить местных жителей. Зиедонис действовал большей частью уговорами, Гребенкина пускала в ход плетку, а балтийский матрос размахивал своим любимым маузером. Никакие из этих мер не подействовали.
Тогда, посовещавшись, командиры определили десяток самых подозрительных. Мандельбаум предложил их всех расстрелять на глазах односельчан. Зиедонис, понимая, что без крови им отсюда не выбраться, сумел снизить число приговоренных до трех. А на оставшихся в живых наложили контрибуцию в размере тридцати тысяч рублей. Деньги собирали всем селом.
После того, как приговор был приведен в исполнение, Андрианов пригрозил, что в случае повторения убийства кого-нибудь из товарищей-коммунистов, будет объявлен широкий красный террор. И команда вернулась на пароход. По дороге один из местных жителей, догнав Зиедониса, прошептал ему на ухо, что уж кто-кто, а эти трое расстрелянных точно ни в чем не виноваты.
– Что ж вы раньше молчали? – злобно укорил Федор-Абрам.
Мужик ничего не ответил и ушел прочь.
Еще через день «Доброжелатель» причалил к старинному селу Усть-Нем, где их радостно встретил в полном составе комитет бедноты. Выглядели комбедовцы довольно странно – на них были надеты вполне добротные ситцевые рубахи, новенькие кафтаны и пиджаки, явно не подходившие им по размеру. В их сопровождении «гусары» разошлись по избам богатых крестьян, реквизируя любое попавшее под руки добро. Левые эсеры, объявив, что не намерены участвовать в грабежах, остались на пароходе. Андрианов предложил Мандельбауму и Зиедонису пойти в Спасскую церковь, где сельчане собрались на вечернюю службу, и объявить им, что в Усть-Нем пришла советская власть. Федор-Абрам не возражал, Мандельбаум тем более.
В храме среди свечей возвышалась фигура черноволосого настоятеля отца Дмитрия. Он что-то говорил на зырянском наречии, а прихожане в ответ истово молились и били поклоны. Матрос подошел к священнику и приказал ему сообщить о наступлении новой эры, но тот, ничего не ответив, вышел прочь. Тут же к Андрианову и Зиедонису подскочил молоденький комбедовец в залихватском картузе и прояснил, что проповедовал проклятый поп. Как оказалось, он говорил, что бесчинствам, учиненным красными дьяволами, Господь скоро положит конец. Бог милостив, но терпеть такое зло он долго не будет.
По приказу Мандельбаума отца Дмитрия немедленно арестовали и увели в трюм «Доброжелателя». Утром следующего дня, когда пароход отчалил, на палубе возле пушки устроили над священником суд. Отец Дмитрий свои слова о бесчинствах не отрицал, но уверял, что он имел в виду вовсе не советскую власть, а лишь деятельность комбедовцев. Австрияк-интернационалист посчитал, что такого признания достаточно, чтобы объявить попа контрреволюционером, и потребовал приговорить его к расстрелу. Никто возразить не посмел.
Тянуть резину не стали. Андрианов приказал рулевому причалить к берегу, и «гусары» погнали священника вниз по трапу. Конвоиры требовали его отречься пока не поздно от Бога, которого все равно как не было, так и нет. Отец Дмитрий в ответ называл их слугами сатаны, за что тут же получал нагайкой по спине. Зиедонису стало тошно от этого зрелища. Он спустился на берег вслед за конвоирами, вынул из кармана черный браунинг, подошел к священнику и выстрелил ему в висок. Ошалелые «гусары» застыли на месте.
– Мы хотели бы, товарищ командир, чтобы он могилу сначала себе вырыл, потом пристрелить, – пробормотал один из конвоиров.
– Ничего, сами выроете, – ответил Зиедонис и быстро поднялся на палубу.
Там уже стояла изумленная Рина.
– Почему ты его убил? – тихо спросила она.
– А ты бы предпочла, чтобы его еще помучили? – вопросом оправдался Федор-Абрам.
Через час «Доброжелатель» поплыл дальше, а Зиедонис, глядя на реку, подумал, что за эту поездку он одну душу спас и одну погубил. Счет, как у Никодимуса, сравнялся. А еще он решил, что революция – это половодье. Она поднимает наверх всякую муть, но после нее останутся чистые заливные луга, на которых взрастут новые поколения счастливых людей.
В этот момент, Федор-Абрам пожалел, что он не писатель и не журналист, а то бы обязательно использовал где-нибудь эту фигуру речи. И решил как-нибудь при встрече подсказать ее репортеру Брачишникову. Пусть употребит в своей статье о русской революции.
Статья Брачишникова
Репортер, глядя сквозь зарешеченное окно на белоснежную Спасскую башню Кремля, соображал, как бы подсказать сотрудникам Казанского ВЧК, что он, собственно говоря, свой. Он выполнял особое задание, правда, не советской власти, но на пользу ей. За окном плыла тишина, а забитая под завязку камера, воняла и галдела, поэтому репортеру не хотелось оглядываться на нее, и он с тоской смотрел на вольную улицу.

Тишину перебил отряд одетых в единую форму без погон и знаков отличия красноармейцев. Они бодро, как победители, шли с песней, от которой Брачишникова пробила дрожь:
Слушай, товарищ,
Война началася,
Бросай свое дело,
В поход собирайся.
Смела-а мы в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это.
Месяц назад эту же песню он слышал в большой комнате гостиницы «Франция». Ее спел под гитару поручик Львицын, находившийся в этой же камере. Сейчас он, худощавый, с впалыми щеками, лежал на нарах, тупо уставившись в потолок. Текст песни, правда, был тогда немного иной:
Слышали братья,
Война началася!
Бросай свое дело,
В поход снаряжайся.
Смела-а мы в бой пойдем
За Русь Святую
И, как один, прольем
Кровь молодую!
Уже тогда мотив песни ему показался до боли знакомым. Не только в тексте, но и в мелодии в исполнении поручика звучали нотки обреченности. Казалось, Гриша Львицын уже знал, что ему предстоит пролить свою молодую кровь и исчезнуть с поверхности земли.
Брачишников спросил у поручика, что это за песня, и он ответил, что она поддерживала их еще на германской войне, когда они мерзли в окопах и кормили вшей. Но более всего помогала нынешней весной во время Корниловского похода по дорогам Кубани, когда заморозки и дожди, сменяя друг друга, делали ледяным их шинели, а дорога под ногами представляла из себя сплошное месиво из снега и грязи. Добровольцев тогда косили не столько большевистские пули, сколько болезни. И самого Львицына, вроде молодого и крепкого, свалила обыкновенная простуда. Его, дрожащего в лихорадке, подобрали станичники, выходили, а когда подошли красные, помогли бежать. После долгих скитаний Гриша, жаждущий мстить и мстить «красной сволочи», оказался в Самаре и вступил в Народную армию – в отряд полковника Каппеля на рядовую должность. С ним и вошел в Казань.
И там Каппель прознал, что пока Львицын не ушел добровольцем в 1915 году биться с германцами, он учился в Москве на историко-филологическом факультете. Вызвал его и поручил составить и распечатать воззвание к красноармейцам, чтобы они переходили на сторону белых, не опасаясь, что их расстреляют. Вообще-то, поручик привык изучать чужие тексты, а не писать свои. Но отказываться не стал и отправился в редакцию газеты «Новое казанское слово» в надежде найти там помощника в лице какого-нибудь журналиста, а заодно узнать адрес типографии. Там он и встретил Брачишникова.
Долго уговаривать петроградского репортера не пришлось. Они сразу после знакомства отправились на Воскресенскую улицу, где в гостинице «Франция» остановился Брачишников. По дороге услышали колокольный звон и увидели спешащих куда-то людей и, движимые любопытством, двинулись вместе с ними. Так они пришли к молочного цвета двухэтажной тюрьме. Ее двор был огорожен высоким забором, из которого слышались выстрелы. Входить во двор не стали, а растолкав несколько наиболее пронырливых граждан, заглянули сквозь широкую щель. Картина открылась не из приятных. Во двор из белокаменного здания выводили небольшими группами угрюмых красноармейцев и ставили их в ряд к стене перед взводом чешских солдат, одетых в обычные гимнастерки и русские фуражки, на которых вместо кокарды красовались узкие бело-красные ленточки. Те по команде фельдфебеля невозмутимо поднимали винтовки и расстреливали пленных. Умирающие что-то кричали, но не на русском языке, а, как быстро разобрал Брачишников, на латышском. Это его не удивило – город защищали латышские стрелки. С каждым выстрелом толпа за забором охала, убитые падали, их тела оттаскивали и тут же приводили новую группу. Гора трупов росла, и их никто не убирал.
Брачишникову стало не по себе. Он отошел в сторону и предложил Львицыну продолжить путь. Поручик ликовал. Пока они шли, он приговаривал: «Попались голубчики! Ничего, смерть-матушка их всех приберет. Нечего защищать неправое дело».
Проблема, однако, состояла в том, что им предстояло сочинить воззвание, полностью противоречащее увиденной картине. Гришу – они быстро перешли на «ты» и называли друг друга по именам – это нисколько не смущало, а Брачишников уговорил себя тем, что ему предстоит ответственная миссия, а потому на такие мелочи не стоит отвлекаться.

В одноместном номере Брачишникова они без труда сотворили текст прокламации. Коля, как профессионал, переводил на русский литературный язык Гришины мысли, и получилось очень даже неплохо: «Красноармейцы! Ваши комиссары говорят вам, что мы расстреливаем тех красноармейцев, которые, устыдившись собственного позорного поведения, приходят и сдаются нам. Не верьте этим лжецам: они давно обманывают и дурачат вас. Продавшись Германии, изменники-комиссары хотят и вас сделать участниками того проклятого дела, которому они сами служат за деньги».
Написав это, Коля подумал, что все же стоит быть ближе к правде, а то им никто не поверит. И тогда сами собой родились слова: «Комиссаров мы действительно расстреливаем. Мы безжалостно расправляемся и с теми из большевиков, которые грабят и убивают мирных граждан, рабочих и крестьян. Но когда к нам приходят красноармейцы и, положив оружие, сдаются, мы принимаем их по-братски, потому что сражаемся не с ними, а с гнусными изменниками-большевиками». Последние три слова придумал Гриша.
Завершили воззвание просто: «Итак, красноармейцы, оставляйте ряды советской армии. Переходите к Народной Армии, единственной защитнице и спасительнице России». Поставив точку, Брачишников предложил это дело отметить. Он не стал признаваться, что ему хочется залить алкоголем муки совести. За полтора десятка лет журналистской практики ему еще не приходилось так откровенно лгать. Грише захотелось выпить по противоположной причине. Завтра эту прокламацию разместят в газете, забросят в окопы красных, и это будет самый большой его вклад в победу белого движения, в которой он ничуть не сомневался. Такое дело стоило отметить.
Молодые люди вышли в коридор, размышляя, где можно обзавестись спиртным, и услышали шум за одной из дверей. Львицын заглянул через нее и увидел в большой комнате офицеров-каппелевцев, распивающих разбавленный спирт. Они узнали поручика и предложили вместе с приятелем присоединиться. Что они отмечали, так и осталось неведомым. Но после первого стакана Гриша заметил в руках одного прапорщика гитару, взял ее в руки и запел: «Слышали братья, Война началася!»
ххх
Брачишников вспомнил, откуда ему знаком этот мотив. Как-то очень давно, когда он делал первые шаги в журналистике, ему вместе с директором департамента полиции Лопухиным довелось слушать в кафешантане «Аквариум» пение мадам Херо: «Белой акации гроздья душистые, вновь аромата полны…» В ее исполнении тоже звучала обреченность, только совсем по иному поводу – она оплакивала уходящую молодость. Смысл немного разный, но мелодия одна и та же.
Николай обернулся на своего лежащего на нарах товарища и заметил, что он негромко напевает на все тот же мотив (видимо, и он услышал пение красноармейцев):
Кровь молодая
Льется рекою,
Льется рекою
За русскую честь!
Вечная память
Павшим героям,
Вечная слава
Кто еще жив!
Брачишникову безумно захотелось, чтобы последние строки про тех, кто жив, относились к нему. Свой естественный страх смерти он оправдывал тем, что еще не до конца исполнил свою миссию, ради которой, поминутно рискуя жизнью, пробрался вместе с группой Маркуса нынешним летом в захваченную белыми Казань, в котором находился эвакуированная три года назад из Петрограда большая часть золотого запаса России. От того, чьих руках окажется золото, во многом зависел исход гражданской войны.
Вооруженной вочами группе Маркуса предстояло перехватить золото, а Брачишникову – узнать, где оно находится. До начала августа драгоценные слитки и прочие ценности хранились в подвале Казанского отделения Народного банка. Но перед отступлением по поручению Ленина красные принялись спешно грузить их на пароходы и баржи, но так и не успели их эвакуировать – белые и чехи со словаками захватили город в два счета. Помог размещенный в Кремле сербский батальон, в полном составе перешедший на сторону Каппеля. И уже на следующие день газета «Новое казанское слово», позиционирующая себя как орган прогрессивной независимой мысли, сообщила: «При бегстве из Казани большевики оставили весь золотой запас в сумме около 500 млн. р. по номинальной стоимости и все ценности частных банков. Запасы вооружения, снаряжения и пр., брошенные в городе еще не выяснены, но, несомненно, велики».
Поэтому, прибыв в Казань и поселившись в гостинице, Брачишников первым делом явился в редакцию «Нового казанского слова». Заметку о золотом запасе он прочитал в номере этой газеты, валявшейся в фойе. Его встретили с распростертыми объятиями, как звезду столичной журналистики, и охотно приняли в свои ряды.
Брачишников встретился с автором той заметки и между делом поинтересовался судьбой золота, но казанский репортер ничего ответить не смог. О захваченном золотом запасе ему сообщил комендант города полковник Лебедев.
Тогда Брачишников напросился на интервью с полковником Лебедевым. Комендант охотно рассказал о том, как налаживается мирная жизнь в городе, разоренном «красными бандитами», не скрывал трудностей. Поведал о большевистских агитаторах, проникших на Пороховой завод. Под их влиянием рабочие устроили митинг и потребовали, чтобы их представителей ввели в военный штаб и удалили из города чехословаков. Конечно, их требования никто выполнять не собирался, тогда группа рабочих попыталась захватить артиллерийский склад. С трудом мятеж удалось погасить.
Брачишников осторожно завел разговор о золоте, поинтересовавшись о его судьбе, но полковник только и сообщил, что место пребывания ценностей держится в глубокой тайне. Но заверил, что судьба золотого запаса России в надежных руках полковника Каппеля.
Тогда новоявленный казанский репортер вызвался проинтервьюировать самого Каппеля, но его адъютант вежливо ответил, что полковник находится на передовой и журналистов не принимает. Но тут сама судьба вновь прислала Брачишникову поручика Львицына. Гриша с номером «Нового казанского слова», на первой странице которого было опубликовано воззвание «Красноармейцам!», сумел прорваться к Каппелю, когда тот на короткое время вернулся в Казань, и признаться, что текст воззвание он сочинил вместе с Брачишниковым. Неожиданно полковник сам предложил встретиться с репортером и назначил время на 23.00 следующего дня.
ххх
В назначенный час Брачишников явился в штаб Народной армии, где его встретил адъютант Каппеля, они вместе поднялись на второй этаж и журналист уже один вошел в огромный кабинет, на задней стене которого висела большая карта России с помеченным флажками расположений красных и белых воинских частей. Перед картой стоял массивный стол, за которым сидел невысокий человек в зеленом френче с серебряными полковничьими погонами, маленькой головой с аккуратно уложенными волнистыми волосами, не менее аккуратной рыжеватой бородкой и усами. При этом глаза выдавали безумную усталость. Это и был Каппель.

Владимир Каппель
Увидев репортера, полковник вышел из-за стола, пожал ему руку, жестом указал на стул возле себя, сел сам и заговорил:
– Вас, если не ошибаюсь, зовут Николай Брачишников? Извините, не знаю, как по отцу.
– Ничего страшного, Владимир Оскарович, меня можно и по имени. Я действительно Брачишников.
– Так вот, господин Брачишников, я пригласил вас потому, что жду вашей помощи. Я читал в Петербурге ваши статьи. Признаюсь, не все они мне были по душе. Но сейчас решается судьба России, а потому отбросим в сторону сантименты. У вас сильное перо и вы должны мне помочь. Согласны?
Брачишников кивнул, а про себя подумал: все сделаю, скажи только, где золото.
– Вы напишете статью, смысл которой я вам сейчас объясню, – сказал Каппель.
Репортер достал из кармана блокнот и карандаш и дал понять собеседнику, что весь в внимании.
– Нет-нет, записывать ничего не надо, – остановил его полковник. – Суть статьи вам будет легко запомнить. А записи ни к чему. Никто не должен знать, что это идет от меня. И в статье мое имя не должно звучать. Иначе меня обвинят в измене, и что я разбалтываю наши военные планы, хотя их и без меня уже разболтали. У меня много врагов. Понимаете? И они готовы воспользоваться любым предлогом, чтобы меня убрать с дороги.
Брачишников кивнул и сунул блокнот в карман. Каппель поднялся из-за стола и подошел к карте. Чувствовалось, что ему легче говорить, когда перед ним нарисованный план военных действий.
– Так называемая Красная армия пока еще никакая не армия, а сплошное отребье из латышей, китайцев, сербов и российской голытьбы – тех, что и русскими назвать язык не поворачивается. Наша же армия состоит большей частью из кадровых офицеров. Мы более организованы, и уже показали себя при штурме Казани. Наши потери – не более 25 человек. Сербы сами перешли на нашу сторону. Вы спросите: а что теперь? И я отвечу: надо развивать успех. Надо идти на Нижний Новгород, где застряла вторая часть золотого запаса нашей Родины.
– А как обстоят дела с первой частью? – ввернул словечко репортер.
– За нее не надо беспокоиться. То, что бросили большевики, мы уже вернули на место в банк. Но пароходы и баржи, приготовленные ими, стоят там, где стояли. В случае внезапного налета, мы без труда все золото и серебро эвакуируем.
Брачишников, не показывая виду, ликовал. Одним махом он убил двух зайцев: узнал, где золото и планы Каппеля.
– Взяв Нижний, мы сможем ударить по Москве, – продолжил полковник, показывая по карте, куда следует направить основные силы Народной армии. – Тогда большевикам конец. Вы меня понимаете?
– Конечно, понимаю, Владимир Оскарович. Но что мешает вашему плану?
– Мешает этот чертов КОМУЧ[xvii]. Эти болтуны вкупе с чехословаками считают, что мы должны перейти к стратегической обороне и закрепиться на достигнутом. Они думают, что Красная армия так и останется сбродом. Не понимают, что нельзя недооценивать противника. Это уже показала война с германцами и австрийцами. Тоже думали, что шапками закидаем.
Брачишников вновь кивнул. Он внимательно смотрел и слушал Каппеля, уже не понимая, чью сторону занимает. Журналисту на миг показалось, что действительно было бы неплохо белым взять Нижний Новгород и ударить по Москве.
– Им бы хоть раз побывать на передовой, они бы многое поняли, – после небольшой паузы взволнованно заговорил полковник. – Они бы увидели, как этот сброд меняется на глазах. На их стороне, к всеобщему стыду, сражаются кадровые офицеры. Большевики и мне предлагали, когда я был в Перми, стать на их сторону. Большие должности сулили. К счастью, я быстро увидел, что к чему. Однако оставим это. Вы должны уяснить и показать в статье главное: если мы в кратчайшие сроки не разобьем большевиков, то большевики разобьют нас.
Каппель замолчал, отошел от карты, достал из шкафа початую бутылку шустовского коньяка и два маленьких стакана.
– Это из старых запасов, – пояснил полковник. – Давайте выпьем за вашу будущую статью и за нашу несчастную Родину.
Брачишников молчал, не зная, что сказать и боясь упустить что-то важное. Каппель разлил алкоголь по стаканам, они чокнулись, и полковник разом опрокинул горячительный напиток. После этого он сел за стол, немного помолчал, а потом опять разговорился:
– Судя по тому, что вы писали в Петербурге до этой российской катастрофы, вы монархист?
Журналист опять кивнул.
– Знаете, я тоже монархист. России не нужно никакого учредительного собрания. Ему нужна сильная власть и царь, на которого все будут молиться.
Брачишников замер – полковник говорил то, о чем он и сам давно думал.
– Когда разобьем большевиков, мы на этом не остановимся, – говорил слегка захмелевший Каппель. – Надо убрать с дороги всю эту эсеровскую шантрапу и вернуть народу государя-императора. Сволочи большевики расстреляли Николая Александровича и его родных, но род Романовых обширный, среди них найдутся те, кто возьмет на себя ответственность за великую Россию.
Брачишникова в этот момент пронзила острая головная боль. Полковник выдал его затаенные мысли. Журналист понял, что было жестокой ошибкой под давлением Никодимуса ставить на большевиков.
– Можно еще коньяк? – робко попросил репортер.
– Пожалуйста, – Каппель разлил по стаканам остатки шустовки. – Выпьем за упокой души государя-императора и его семьи.
Владимир Оскарович трижды перекрестился и выпил коньяк, не чокаясь. Брачишников вслед за полковником также перекрестился и опрокинул остатки в глотку. Боль мгновенно ушла. Сознание неожиданно прояснилось, он понял, что ему надлежит делать. С этой минуты он порывает с кэртасом, не будет больше служить какой-то Уламколе. Его место рядом с Каппелем.
ххх
Вернувшись во «Францию», Брачишников сел за статью. Время было позднее, но спать не хотелось, и, несмотря на выпитый коньяк, голова работала четко. Не жалея красок, он описал разгильдяйство Красной армии, оставляющей повсюду кровавые следы и доблесть армии Народной, вполне заслуженно получившей такое название, поскольку она сама – плоть от плоти от русского народа и готова защищать русский народ от продавшихся германцам большевиков. Поведал, как с помощью немецких денег красным кровопийцам удается вербовать русских офицеров, беря в заложники их семьи. И пока эти сорняки не проросли и не загубили все здоровое поле матушки России, необходимо их срочно выполоть. Для этого доблестная Народная армия должна освободить от красной заразы Нижний Новгород и оттуда ударить по Москве, очистить сердце нашей Родины от большевистской скверны.
Только поставив точку, журналист позволил себе, не раздеваясь, лечь на койку и поспать несколько часов. А к утру он уже был в кабинете редактора «Нового казанского слова» господина Жаровникова и без лишних слов положил перед ним статью. Объяснил, что получил эксклюзивную информацию из штаба Народной армии, и вкратце описал то, что говорил ему ночью Каппель. Фамилии полковника Брачишников, разумеется, не назвал.
Жаровников одобрил статью и пообещал, что она выйдет уже в завтрашнем номере. Когда Брачишников покинул редакторский кабинет, он увидел в длинном тускло освещенном коридоре уходящую одинокую женщину в выцветшем оранжевом платье и котомкой в руках. Она на миг оглянулась, и репортер узнал в ней Раису Оплеснину. Казалось, она ничего общего не имела с пышущей здоровьем молоденькой купчихой, которую он встретил шесть лет назад в Усть-Сысольске и влюбился, как мальчишка.
Рая тоже не сразу признала в изрядно потертом Брачишникове того щеголеватого и хвастливого репортера, который ей почему-то очень тогда понравился. Она сама подошла к нему и негромко произнесла:
– Здравствуй, Коля! Наконец-то я тебя нашла.
Брачишников давно уже отвык удивляться, но тут замер, не в силах вымолвить ни слова. А Рая, не дожидаясь вопросов, начала на них торопливо отвечать:
– Я увидела твою заметку в газете и поняла, что ты в Казани. Узнала адрес редакции, и вот я здесь. А тебя на месте не оказалось. Твои друзья говорили, что ты неуловимый. Но ты главное не беспокойся, просто помоги мне найти какую-нибудь работу, хоть уборщицей, и какое-нибудь дешевое жилье. И я тебя беспокоить не буду.
– Ты меня совсем не беспокоишь, Рая. Я тебе, конечно же, помогу, – вымолвил Брачишников.
Они вышли на улицу и Брачишников повел Раю в ресторан гостиницы «Франция», в котором сам неоднократно питался. Рая не хотела туда идти, говорила, что дорого, а питаться за счет репортера поначалу отказывалась. Тогда Брачишников напомнил ей, как он и его товарищи кормились у ее отца, и теперь пришла пора отдать долги.
При упоминании об отце, Рая заплакала, и такую, в слезах, Брачишников привел ее в ресторан, усадил за дальний столик в углу и заказал несколько любимых им самим блюд. Постепенно бывшая купчиха успокоилась и рассказала о своих злоключениях.
ххх
В июне в Усть-Сысольске объявились большевики и тут же начали наводить свои порядки. Дом у Оплесниных отобрали и не посмотрели, сколько добрых дел сделал их батюшка. Рая и Зина с отцом остались без приюта, жили у родных, скитались из одного дома в другой. Зина ушла к тете по матери в село Озел, сказав, что будет тяжким трудом добывать свой хлеб. Отец, не вынеся унижений, ночью пробрался в построенный им самим дом, в котором новая власть устроила общественную столовую для голытьбы, да и повесился. Рая, как ни следила за батюшкой, уберечь его не смогла. Сама же пристроилась на жилье в здании женской гимназии, в которой она преподавала в последние годы, учила коми девушек русскому языку и великой русской литературе. Летом гимназия пустовала, а актовый зал прибрала к рукам советская власть для своих собраний и съездов. Рая им не мешала.
Но судьба свела учительницу с Олей Керенской – супругой бывшего главы Временного правительства. Ее вместе с ее мамой Марией Васильевной Барановской и двумя детьми направил в Усть-Сысольск Питирим Сорокин, чтобы они не умерли в голодной и холодной столице. Оля оказалась сильной и волевой женщиной. Она ничего и никого не боялась, и это очень подкупило Раю. Они подружились. Но дружба длилась недолго. Чекисты, которые уже расправились и с купцами Кузьбожевыми, и с местными земцами, добрались и до Керенской. Ее увезли в Котлас, а беспомощная мама и сыновья-подростки Олег и Глеб остались одни. Пришлось Рае заботиться о них. Саша Холопов, архитектор, достал билеты на пароход не только для питерских беженцев, но и на бездомную Раю, чтобы она помогла осиротевшему семейству добраться до Петрограда, где проживает Раина родная сестра.
Они доплыли до Котласа, где узнали, что Олю Керенскую отправили этапом в Москву, и тут их дороги разошлись. На железнодорожном вокзале творилась безумная суматоха, толпы штурмовали поезда. Все спешили уехать – одни бежали от красных, другие – от белых. Рае удалось посадить Марию Васильевну и мальчиков в поезд на Петроград, самой же места не нашлось. Возвращаться не хотелось, оставаться в городишке не имело смысла. И она села в первый попавшийся эшелон, в который ей удалось залезть. Так она, перемещаясь из города в город, подрабатывая чем и как придется, оказалась в Казани – без денег, без родственников и без знакомых.
Рая снова заплакала, и Брачишников так и не узнал, как все-таки получилось, что Раю занесло именно в Казань. Но он не стал ее пытать. Он, наверное, впервые за свои 35 лет жизни ощутил себя мужчиной. Ему, конечно, приходилось иметь дело с женщинами. Чаще со шлюхами или дамами старше его самого. Эти сорокалетние матроны относились к нему по-матерински, называли мальчиком, требуя в постели больше ласки. А сейчас он увидел ту, которая сама нуждалась в нем, ждала, что он подаст ему руку. При этом Брачишникову ничего стоило так и поступить.
Наевшись досыта, Рая оттаяла, и они обсудили ее дальнейшую судьбу. Брачишников сообщил, что в редакции не хватает корректора. Девушку, что правила журналистские тексты, заподозрили, что она работает на большевиков, и уволили. Теперь Рая может занять ее место. Комнату он ей найдет. А пока она может пожить в его номере. Спать будет на кровати, а он себе постелет где-нибудь у стены. Рая опять не согласилась. Они попытались найти свободный номер во «Франции», но гостиница была забита до отказа. Пришлось согласиться на вариант Брачишникова. Но он был реализован не совсем так, как предполагалось. На ночь Рая, попросив приятеля отвернуться, скинула верхнюю одежду, устроилась было одна в постели, но устыдилась и позвала Брачишникова лечь рядом. Уговаривать журналиста не пришлось. И они быстро поняли, что стрела Амура, пронзившая их тем далеким летом, никуда не делась. Они в ту ночь стали не то любовниками, не то супругами.
Такими их и застали чекисты, когда две недели спустя пришли за Брачишниковым.
Его статья о необходимости идти Народной армии через Нижний Новгород на Москву успеха не имела. Между тем поднялась и окрепла Первая революционная армия под командованием Михаила Тухачевского. По силе военного таланта он был равен Каппелю, но имел то преимущество, что ему полностью доверял и поддерживал наркомвоенмор Троцкий, самолично прибывший в театр военных действий, чтобы силой запугивания и словесных убеждений привести в порядок жалкое сборище вооруженных людей, называвшихся красноармейцами.
В итоге армия Каппеля столкнулись в Симбирске с группировкой Тухачевского, а в это время в Казани высадилась Волжская флотилия. Началось массовое бегство из города. Уходили интеллигенты в поношенных шляпах, офицеры, не пожелавшие воевать ни за белых, ни за красных, священники в запыленных рясах. Брачишников уйти не смог – Рая немного приболела. Долгие скитания истощили ее организм, и она подхватила неведомую заразу, попав под мелкий дождик.
Брачишников не слишком жалел, что не может уйти. Он же был вроде как за красных, с оружием в руках против них не боролся – чего ему бояться. Поэтому свой арест счел недоразумением. Просил только, чтобы Раю не трогали. Но ее взяли как свидетельницу – она должна дать показания.
Три дня журналист томился в душной камере, куда в день его ареста втолкнули и Гришу Львицына. Каппель поручил поручику и нескольким добровольцам на случай взятия Казани красными расклеить новое воззвание красноармейцам, текст которого сочинил сам, и организовать белое подполье. Воззвание они расклеили, а подполье организовать не удалось – их выдал местный дворник, работавший возле дома, где квартировал Львицын.
Когда Брачишникова, наконец, привели на допрос в маленькую комнату при тюрьме, его сердце забилось – за столом сидел бывший гардемарин Раскольников.
– Здравствуйте, Федор Федорович! – обрадовано произнес журналист.
– Садитесь, гражданин репортер, – бесстрастно буркнул Раскольников. – Я тут случайно, но решил вот с вами побеседовать. Мы ведь коллеги, я сам когда-то писал статьи в «Правду». И меня разобрало любопытство: как это так вы переметнулись к нашим врагам?
Память товарища Ильина – а именно таковой была его настоящая фамилия – оказалась очень крепкой. Он запомнил Брачишникова, которого видел только раз, сразу после ухода большевистской фракции с Учредительного собрания. Раскольников, по просьбе журналиста, дал ему свой комментарий по этому поводу. Статью Брачишникова в «Известиях» Федор Федорович после прочитал, и она ему понравилась – написано талантливо, сочно и точно.
В Казань бывший гардемарин прибыл на миноносце «Прочный» во главе флотилии, которой удалось прорваться мимо вражеских батарей и вызвать у причала пожар и панику, что способствовало успеху высадившегося десанта. После захвата города Раскольников ждал новое назначение, а тюрьму посетил, чтобы выпустить красных подпольщиков и сочувствующих им рабочих, арестованных прежней властью.
Посвящать во все это Брачишникова красный командир не стал, а принялся выпытывать у него, какими журналистскими тропами попал бывший репортер «Известий» в Казань. На столе, за которым сидел Раскольников, лежали неопровержимые вещественные доказательства контрреволюционной деятельности Брачишникова – несколько номеров «Казанского нового слова» с воззванием «Красноармейцам!», которое, как установили следователи ВЧК, сочинил петроградский репортер, статьи с призывом бить Красную армию, пока она не укрепилась, и прочие материалы. Отпираться было глупо, но Брачишников стал с жаром пояснять, что все это служило ему лишь прикрытием. Его главная цель – узнать, где находится Золотой запас России, попавший в руки белым.
– И что же – узнали? – вновь полюбопытствовал Раскольников.
– Да, – бодро ответил Брачишников и поведал все, что выведал у Каппеля.
– Положим, что так. Но кто же поставил перед вами эту цель? Кому вы должны эти сведения сообщить?
И тут репортер сник. Рассказывать про кэртас, неведомую Уламколу, вездесущего Никодимуса он не имел права, тем более, ему бы все равно никто не поверил. Единственного, на кого Брачишников смог сослаться, так это на Зиедониса, лично знакомого с товарищем Троцким.
Раскольников пообещал расспросить на этот счет наркомвоенмора и на этом простился, не пожимая руки. Брачишникова отвели обратно в камеру. С этого времени он уже не особенно переживал за свою судьбу, более его мучило, что сейчас с Раей. Ее, конечно, уже выпустили, но куда ей идти? Журналист был уверен, что без него она пропадет, а потому с нетерпением ждал своего освобождения. И когда с грохотом отворилась железная тюремная дверь, и красноармеец с винтовкой выкрикнул его фамилию, Брачишников быстро вскочил и уже через секунду стоял возле выхода из камеры. Однако красноармеец принялся выкрикивать и другие фамилии, среди которых был и Львицын. И когда их всех вытолкали во двор тюрьмы – тот самый, в котором чехи расстреливали латышей – до сознания журналиста дошло, что его ждет та же ужасная перспектива.
Однако мозг Брачишникова сопротивлялся мысли о смерти. Ему верилось – кэртас должен его защитить, при этом он совсем забыл, что сам порвал с ним. И если не чокор Маркуса, которому он так и не сообщил местонахождения золотого запаса, то Зиедонис обязательно должен прийти и освободить его. Пусть это случится в самую последнюю минуту.
Тем временем Брачишникова, Львицына и других заключенных построили возле каменной стены. Кто-то из обреченных отчаянно молился, поручик тихо напевал: «Кровь молодая льется рекою,
льется рекою за русскую честь!» В голове Брачишникова из самых глубин выплыли строки забытой им песни с этой же мелодией, но с другими словами: «Годы давно прошли, страсти остыли. Молодость жизни прошла…»
Журналист посмотрел на дверь, ведущую из тюрьмы, и увидел, что оттуда вытолкали группу заключенных женщин, среди которых оказалась Раиса Оплеснина.
– Стойте, погодите! – в полном безумии закричал Брачишников. – Раю отпустите, она тут не причем.
– Эта что ли Рая? – хохотнул конвоир, указывая на самую молодую в группе. – Ну, так отправляйся в рай вместе с ним.
И он отделил Раису от остальных и пристроил к Брачишникову, который продолжал требовать, чтобы ее не расстреливали.
– Не волнуйся, Коля, я и сама не желаю себе другого конца, – негромко сказала Рая и взяла его за руку.
Брачишников действительно немного успокоился. Он все еще безнадежно верил, что жизнь его не покинет. Господи, Зиедонис, явись к нам и выручи из беды, повторял про себя журналист, крепче сжимая Раину руку. Он так и не увидел нацеленные на них стволы старых винтовок, не услышал команд: «Целься!», «Пли!». Но его пронзил звук выстрелов и крик Раи. Пуля в нее вонзилась на долю секунды раньше, чем в Брачишникова.
Явление Зиедониса
Федор-Абрам поморщился от скрипящего звука старой двери припорошенной охотничьей заимки. Но первое, что он увидел, раскрыв ее, заставило поволноваться всерьез. Это был нацеленный на него ствол старого ружья.
– Перестань, Питирим! Я не собираюсь тебя ни убивать, ни арестовывать, – крикнул он в глубину домика, и ружье действительно опустилось.
Зиедонис шагнул во внутрь и при тусклом дневном свете, шедшем от прокопченного окна, увидел заросшего бородой мужчину в чумазой фуфайке, без пенсне, больше похожем на босяка, чем на приват-доцента. Убедившись, что Питирим Сорокин больше не угрожает ему видавшей виды охотничьей одностволкой, Федор-Абрам сел за обшарпанный стол из струганных досок. Бросив на него офицерский планшет, вновь посмотрел на своего друга и не без грусти заметил:
– Вид у тебя настоящего бродяги.
– Я всю жизнь был бродягой, и таковым и останусь до конца жизни, – ответил Сорокин. – Сначала с отцом бродяжничал по зырянским селам, потом вдвоем с братом. Зарабатывали на жизнь тем, что делали всякую церковную утварь. А конец, видимо, уже скоро.
– Не надо торопиться, Пит. Я за тем и пришел, чтобы твой конец скоро не наступил.
– Надо же! – удивился «отшельник». – Но сначала скажи, как ты меня нашел?
– Твоя жена подсказала.
– Лена! – встрепенулся Питирим, усаживаясь рядом с Зиедонисом. – Где ты ее видел?
– В Великом Устюге. Приехала тебя спасать, – бесстрастно ответил Федор-Абрам. – А я оказался там по дороге из Печоры.
– Да, уж. Слух о ваших с неким Мандельбаумом изуверствах даже до сюда дошел. Мне один местный крестьянин рассказывал…
– Вот в этой сумке мой рапорт о проделках «некоего» Мандельбаума, – перебил друга Федор-Абрам, похлопав по планшету. – Своей жестокостью он только настраивает крестьян против советской власти. Я передам рапорт товарищу Троцкому и потребую предать Мандельбаума суду военного трибунала.
– Ага, значит только Мандельбаум виноват! Он и никто другой творит то, что вы прозвали «красным террором». А признайся: твои руки чисты? На них нет крови?
– На них есть кровь, – спокойно ответил Зиедонис. – И я готов за нее ответить. Если понадобится, то и перед судом.
– Хочешь, я скажу, что ты при этом думаешь? Хочешь? Так вот: ты полагаешь, что имеешь право убивать других, поскольку своей собственной жизни тебе не жаль. Тем более, что все это делается ради высшего блага. Только что это будет за благо, если оно построено на крови и ненависти? Знаешь, я и сам умею ненавидеть. Маленьким я ненавидел своего отца, когда он напивался до белой горячки. А мама мне говорила: сынок, ненависть может породить только ненависть. Люби отца таким, какой он есть, ибо любовь порождает любовь. Я эту материнскую мудрость понял только сейчас, сидя здесь, как мышь, загнанная большевистской кошкой.
– Революцию на одной любви не сделаешь.
– А вот тут ты прав, – неожиданно согласился Сорокин. – Не сделаешь. Я и сам только и делал, что возбуждал ненависть. К жандармам, к царю, к чиновникам. Вот мы и получили сплошной поток ненависти, который нас с тобой снесет…
Зиедонис не выдержал, еще раз хлопнул по полевой сумке и негромко, но твердо выкрикнул:
– Хватит, Пит! Я пришел сюда не философствовать, а тебя, дурака, спасать.
– Ты считаешь, что меня можно спасти?
– Да, считаю.
И Федор-Абрам изложил план спасения. Питирим должен написать в великоустюжскую газету «Крестьянские и рабочие думы» письмо, в котором заявит, что отказывается от звания члена Учредительного собрания, о выходе из партии социалистов-революционеров и о намерении больше никогда не участвовать ни в какой политической деятельности. Зиедонис сам отнесет письмо в редакцию, а после того, как оно будет опубликовано, Сорокин выйдет из леса и сдастся великоустюжскому ВЧК.
– А после этого большевистская кошка раздобрится и не станет пожирать несчастную мышь? – съехидничал затворник.
– Может и не раздобрится, но письмо будет передано лично Ленину.
– Кем?
– Левой Караханом. Ты знаешь, что он теперь заместитель наркома по иностранным делам.
– Он сам-то об этом плане в курсе?
– В курсе. Это была его идея.
Питирим Сорокин замолчал, пытаясь осмыслить услышанное, а Зиедонис принялся рассматривать нору, в которую забрался его друг. Выглядела она, мягко говоря, убого – жесткая скамья с наброшенным тулупом, почти догоревшая свеча и два полена возле железной печи. Других дров не имелось ни в домике, ни возле него. Из еды – немного сушеного хлеба и несколько соленых рыбин. С такими пожитками отшельник может продержаться не более двух дней.
– И все-таки, как ты меня нашел? Лена не может знать, где я нахожусь? – прервал молчание Питирим.
– Она и не знает. Потому и попросила меня. А у меня собачий нюх.
– Собачьего нюха, знаешь ли, недостаточно, чтобы отыскать эту хибарку. Зырянский охотник и то вряд ли бы ее обнаружил.
– Охотник и помог – Петя Зепалов[xviii], ты его знаешь.
Зиедонис не стал раскрывать подробности розыска «белобандита», как обозвали Сорокина чекисты. У них были все основания арестовать и расстрелять петроградского приват-доцента, прибывшего летом по заданию «Союза Возрождения России»[xix] в Великий Устюг, чтобы сбросить большевиков, чья зыбкая власть установилась только в марте. План переворота провалился после того, как в город на двенадцати пароходах прибыло из Архангельска все свергнутое посредством интервентов советское руководство. Питириму и его соратникам помог бежать и скрыться в лесах местный эсдек Петр Зепалов, любивший охоту и знавший все заимки в округе. Товарищи Сорокина не выдержали долгих скитаний и один за другим его покинули, разбрелись, кто куда. Только привыкший к бродяжничеству Питирим разыскал охотничий домик, указанный Петром, и поселился в нем.
– Где сейчас Петр? – спросил после паузы отшельник.
– Не знаю. Не исключено, что пойман и расстрелян.
– Сволочи! Так и меня расстреляют. Никакое письмо и никакая газета не помогут.
– Не расстреляют. В Великом Устюге в ЧеКа верховодит Сорвачев. Он такой же зырянин, как и ты. И он мне поклялся, что тебя оставят в живых вплоть до особого распоряжения Москвы.
И вновь повисла пауза. Питирим никак не мог на что-то решиться, а Федор-Абрам его не торопил. Он думал о Рине Макарьиной, которую оставил в городе, ставшем неожиданно губернским[xx], о Лене Баратынской, которая ему когда-то нравилась, но она предпочла Пита Сорокина. Шесть лет назад он, как мальчишка, посмел влюбиться в Зинаиду Оплеснину, но сделать ей предложение не решился. Он тогда считал, что был прав Нечаев[xxi] – революционеру чужды романтизм и всякая чувствительность. Он – человек обреченный. А сейчас, правда, без всякого романтизма и чувствительности, Зиедонис думал о том, что не может оставить недорасстрелянную Рину – большевистская пуля ее догонит. Единственный выход из создавшегося положения – жениться на ней. Тогда, даже в случае его гибели советская власть ее не оставит в беде – как никак, а она будет считаться не купеческой дочкой, а вдовой красного командира.
Питирим между тем потер виски, неожиданно вскочил и принялся расхаживать по избенке, размышляя вслух:
– Значит, ты мне предлагаешь отказаться от политики? От того, чем я занимался двенадцать лет. Отказаться от революции, которая для тебя, Федя, свершилась, и вы теперь на коне. А я, значит, попал на другую сторону баррикад и теперь в одном ряду с ненавистными мне и тебе царскими генералами. Ты прав, Федя, какая уж тут политика. Но что же от меня останется?
– Останется ученый, – пожал плечами Зиедонис. – Определись, что для тебя важнее – наука или политика?
– Вы с Каллистратом Фалалеевичем будто сговорились. Он на моей свадьбе сказал: «Политика, Питирим, может быть общественно-полезной, но может быть и общественно-вредной. А вот работа в области науки и просвещения полезна всегда». Однако если вы, большевики, все же проиграете, и власть достанется генералам, придется снова заняться политикой.
– Мы не проиграем.
– Ой, ли?
– Уверяю тебя: мы не проиграем.
Последние слова Федор-Абрам произнес таким твердым голосом, что у Сорокина на какой-то момент исчезли сомнения в силе большевистской власти. Зиедонис не сказал, да и не мог сказать другу, что пока Мандельбаум со своим отрядом бесчинствовал на Печоре, Федор-Абрам побывал в неведомой социологу Уламколе, где они вместе с Гуддимом и Тунныром тщательно продумали, что и как можно сделать для победоносного завершения плана «Омоль йором». Большевики так никогда и не узнают, кому они будут обязаны как захватом власти, так и ее удержанием. И, конечно, им неведомо, что пока они бьются с Колчаком на востоке и Деникиным на юге, на севере, глубоко под землей формируются группы полукровок и рабов из последних этажей, готовятся новые вочомы и веселящие шани. Очень скоро вся эта армия окажется на поверхности Земли и разойдется по немыслимым просторам распавшейся империи, чтобы сделать невозможным ее восстановление в прежнем виде. Выжившие уламколымские рабы станут полноценными гражданами империи подземной, не собирающейся распадаться ни при каких обстоятельствах.
Сорокин еще немного походил туда-сюда, а потом сел за стол и сказал:
– Я готов писать. Но у меня нет ни бумаги, ни чернил.
– У меня есть, – коротко ответил Зиедонис и достал из планшета бумагу и химический карандаш.
Питирим Александрович взял то и другое и принялся сочинять текст своего «Отречения». А мысли Федора-Абрама полетели в Москву – к Никодимусу, с которым ему еще предстоит обсудить завершающую стадию операции «Омоль йором».
Мысли Никодимуса
Представление «Мистерии-буфф» катилось к завершающей стадии. На сцене творилось нечто несусветное. Не было не только привычной бутафории – рисованного задника с березками, традиционных столов и диванов, но даже обычных кулис и занавеса. Вместо всего этого прямо в центре, как выпуклый пузырь, вырастала полусфера с надписью «Земля», а рядом вверх устремлялись лесенки, к которым были прикреплены небольшие мостики. Все вместе это напоминало гигантский корабль, именуемый ковчегом. Однако этой громадине становилось тесно в пространстве сцены, и в последнем акте «нечистые» пассажиры вторглись в зрительный зал и поднялись по лестнице к крайней ложе бельэтажа. И уже оттуда они разглядывали Землю Обетованную – светлое будущее, которое вот-вот должно наступить.

Среди не слишком пестрой, хотя и разнокалиберной публики в кожаных куртках, зеленоватых френчах и прозодежды, немного выделялись два носатых низкорослых господина, одетых по-буржуйски на дореволюционный манер. У одного из серой жилетки выглядывал яркий галстук, второй выделялся клетчатыми брюками и сизым пиджаком в белый горошек. Зрители пролетарского происхождения не обращали на них внимания: гражданская война окончилась, а вместе с ней и деление на красных и белых. Первый «буржуй» во время представления почти беспрерывно смеялся. Второй не мог отвести от сцены восторженных глаз.
Публика попалась весьма эмоциональная, реагировала не только на события, но и на отдельные реплики, вроде «Одному бублик, другому дырка от бублика – это и есть демократическая республика», или «Дивизия разом валиться наземь». После таких словечек зрители гоготали, отчаянно хлопали как в ладоши, так и друг друга по плечам.
В финале этого странного зрелища все «нечистые», коими на самом деле были пролетарии, пролетарки, два эскимоса и красноармеец, запели на мелодию «Интернационала»:
Труда громадой миллионной
тюрьму старья разбили мы.
Проклятьем рабства заклейменный,
освобожден сегодня мир.
Зрители, услышав знакомую мелодию, повскакивали с мест и попытались даже подпевать, хотя новый текст пролетарского гимна был им совсем не знаком. Только к концу пение со сцены и зала частично совпало:
Этот гимн наш победный,
вся вселенная, пой!
С Интернационалом
воспрянул род людской.
В ходе пения в зале постепенно зажигался свет, давая понять, что представление окончено, и когда публика это уразумела, пришла в неистовство. Она свистела, визжала, хлопала в ладоши и кричала: «Долой чистых!», «Даешь Маяковского!», «Даешь Мейерхольда!» Казалось, в своем безумии публика достигла апогея, но после того, как на сцену вышли два высоких человека – один бритоголовый в сером костюме, другой носатый в кожаной куртке – она превзошла себя, отдельные крики тонули в едином реве.
– Знаешь, Никодимус, я давно уже понял, что Маяковский гений, – прокричал на ухо своему товарищу второй «буржуй». – Но мне никто не верил. Говорили: он – футурист, он умеет только эпатировать!
– Что ты, любезный Адамус, я-то тебе всегда охотно верил, – ответил первый «буржуй», смеявшийся на протяжении всего спектакля.
После того, как восторженные бури отгремели, Никодимус с Адамусом вместе со всей толпой вывалили на залитую весенним солнцем площадь Янышева, еще недавно называвшуюся Триумфальной. Скрипели и дребезжали трамваи, гудели одинокие авто, покрикивали извозчики, перемещались с неодинаковой скоростью разнообразные прохожие.

– Да, Никодимус, я бы, будь моя воля, дал бы этой площади имя не какого-то комиссара[xxii], а поэта Маяковского или режиссера Мейерхольда, – мечтательно произнес Адамус. – А им самим поставил памятник в самом центре этого восхитительного пространства.
– Ох, Адамус, ничего-то ты в делах оламов не понимаешь, – вздохнул в ответ Никодимус. – Они памятники ставят мертвым, а не живым. И площади только в честь покойников именуют. А твои Маяковский и Мейерхольд живы покамест. Вот умрут, тогда назовут что-нибудь в их честь.
Оба чэрыдея не спеша двинулись по Садовой улице, повернули налево по Малой Бронной, пересекли трамвайные пути, на которых неловкий Адамус чуть не поскользнулся, и вскоре оказались в тихом месте возле большого пруда.
Все то время, пока они шли, Адамус продолжал разглагольствовать по поводу увиденного спектакля, читал наизусть стихи Маяковского, расхваливал прежние постановки Мейерхольда. И только когда они устроились под липами на скамейке, знаток русско-советского театра и литературы заметил, что его соратник слушает всю эту болтовню в пол уха, да и то из вежливости.
От эмоционального подъема Адамус даже слегка вспотел – хотя погода была солнечной, но не жаркой. Пришлось вынуть из кармана носовой платок и протереть им свою лысеющую голову. После этой процедуры Адамус решил сменить тему.
– А знаешь ли ты, Никодимус, где мы находимся? – продолжал вещать чэрыдей. – Нет, ведь, как пить дать, не знаешь. Между тем перед нами Патриаршие пруды.
– Пруды? – удивился Никодимус. – Я вижу перед собой только один пруд.
– Ага! Вот ты и попался, Никодимус. Тебя интересует только количество прудов, а вот то, что они Патриаршие, прошло мимо твоих ушей.
– Ну-у, может патриарх всея Руси здесь когда-то любил прогуливаться и греться на солнышке, – меланхолично предположил Никодимус.
– Прогулки совершенно не при чем. Лет так триста назад здесь находилась резиденция патриарха Гермогена, а время, когда тот жил и патриаршествовал, русские оламы называют Смутным.
Затем своим характерным высоким тенорком Адамус принялся демонстрировать свою эрудицию. Упомянул прославляющую Гермогена «Новую повесть о православном российском государстве», процитировал стихотворение Державина «Мужество», в котором также упоминается вышеназванный патриарх. Он мог бы и дальше погружаться в историю страны, чьими гражданами они могли бы быть, если бы их предки не спрятались под землей, но Никодимус вежливо прервал его речь:
– Любезный Адамус, ты так и не сказал, где же остальные пруды.
– А-а, их просто засыпали лет этак сто назад. А глупые оламы забыли это место переименовать. Кстати, когда-то очень давно здесь не было никаких прудов, а одно сплошно болото. И оламы-христиане придумали легенду, будто здесь, еще до того, как появилась Москва, их предки-язычники собирались и совершали какие-то страшные обряды. Приносили в жертву людей – отрезали им головы и топили их в этом болоте, в котором водилась нечистая сила. Понятно, что это чушь собачья, выдуманная христианами…
Пока Адамус говорил, Никодимус боковым зрением заметил, что на соседней скамейке их слушает человек в длиннополом кожаном пальто, в лакированных ботинках с ярко желтым верхом и в фуражке с белым верхом. Поймав взгляд Никодимуса, этот человек заговорил с характерным южным акцентом и немного наигранно:
– Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи с вами знаком, слушаю ваш ученую беседу. Но ее предмет для меня весьма интересен. Разрешите к вам присесть?
Не дождавшись разрешения, незнакомец покинул свою скамью и нагло устроился возле чэрыдеев.
– И вот что меня особенно интересует, – продолжил человек в кожаном пальто. – Почему вы считаете, будто человеческие жертвоприношения среди язычников, как вы выразились, чушь собачья?
– Вы, любезный, видимо, не москвич? – предположил Никодимус.
– Нет, я пока еще в Киеве, – ответил незнакомец. – Живу, знаете ли, рядом с Лысой горой и не раз наблюдал, как ночами туда слетаются ведьмы. И не далее, как нынешней ночью у них был очередной шабаш[xxiii]. Правда, на этот раз я не имел чести видеть это изумительное зрелище, поскольку пребываю здесь, в Белокаменной.
Человек внимательно посмотрел в бело-матовые глаза странных людей, желая увидеть в них скепсис, однако ничего подобного в их лицах не читалось. А один из этих незнакомцев, как бы в подтверждении, произнес:
– Охотно верим, любезный.
– А в человеческие жертвоприношения, значит, не верите?
– Поверю, если будут доказательства, – спокойно ответил другой коротышка.
– А никаких доказательств не требуется. Что было, то было, – заявил человек в кожаном пальто, после чего поднялся с места и не спеша зашагал по аллее, но вдруг остановился и произнес: – А рассказ ваш про отрезанные головы мне очень понравился.
– Как пить дать, это писатель, – негромко предположил Адамус.
– Любезный, как вас звать? – окликнул незнакомца Никодимус.
– Булгаков Михаил Афанасьевич, – незнакомец вновь на минутку остановился и обернулся. – Литератор…
С этими словами человек в кожаном пальто пошел прочь. Чэрыдеи какое-то время смотрели ему вслед, а затем переместили свои взгляды на водную рябь пруда, в котором играли солнечные зайчики. Адамус мучительно вспоминал: слышал ли он что-либо о таком писателе. Фамилия, казалось знакомая. Вроде где-то встречалась. То ли философ, то ли священник[xxiv]. Но что-то подсказывало, что нет, это не он.
Молчание прервал Никодимус:
– Ты не помнишь, Адамус, какой сегодня день?
– Первое мая.
– По-моему, сегодня какой-то праздник?
– Да, Никодимус. Красные оламы отмечают День Интернационала.
– Нет-нет, любезный. Сегодня еще какой-то праздник. Не вспоминаешь? Сегодня же Пасха!
Адамус пожал плечами в знак того, что лично для него это не имеет никакого значения.
– И вот представь себе, Адамус, именно в Пасху красные оламы устроили богохульское представление, которое мы с тобой изволили сегодня в театре наблюдать, – спокойно, но с ноткой торжественности произнес Никодимус. – Ты понимаешь, что это значит?
– Нет.
– Это значит, что христианство на этой территории повержено. Поздравляю тебя, любезный Адамус, операция «Омоль йором» успешно завершена. Мы победили!
В ответ Адамус засиял, как ребенок:
– А ведь и правда! Пора возвращаться в Уламколу, где нас встретят как победителей.
– Конечно, Адамус, возвращайся вместе со своими людьми.
– А ты?
– Я покамест останусь. Как же я брошу свой кэртас?
– Ты хотел сказать: жалкие остатки твоего кэртаса?
Вместо ответа Никодимус тяжело вздохнул. Горько было осознавать, что его маленькая команда практически потеряна. Особенно жаль Брачишникова. Николай не понимал, что, отрекшись от кэртаса, он утратил и защиту со стороны Никодимуса. Если бы талантливейший репортер остался в его поле, то чэрыдей смог бы уловить момент, когда Брачишников попал в беду, и отправить группу Маркуса на подмогу. Теперь его нет ни на Земле, ни под землей. Остался только Зиедонис. Но он в числе победителей.
Размышления Зиедониса
– Осталось только попрощаться, Победитель, – с ухмылкой произнес Питирим Сорокин, глядя в глаза Федору-Абраму. – Видно больше на этой Земле не встретимся.
Сорокин не привык ждать от кого бы то ни было благодарности, но и сам не считал нужным кого бы то ни было благодарить. Хотя было кому сказать «спасибо». Например, чехословацким ученым за подаренные сверкающие туфли, в коих он в последний раз прошелся по русской земле. Американской организации помощи за пожертвованный недорогой костюм. Зиедонису и Карахану, наконец, второй раз спасающим ему жизнь от мести со стороны их же собственных соратников.
ххх
Четыре года назад Питирим Александрович, скрываясь от пронырливых чекистов в тайге, чуть ли не под диктовку Федора-Абрама написал отречение от своих политических антибольшевистских убеждений. Дальнейший спектакль был разыгран, как по нотам.
Раскаявшийся эсер сдался на милость великоустюжским чекистам, и пока он в переполненной до краев тюрьме ждал неминуемого расстрела, местная газета с неказистым названием «Крестьянские и рабочие думы» с подачи Зиедониса опубликовала текст его отречения, снабдив ехидными комментариями. Сорокин был обозван «соглашателем», желающим «скрыться за бюст непартийной науки». Соглашателей коммунисты не жаловали, и милосердия со стороны великоустюжских палачей ждать не следовало, но неотразимый Лев Карахан сумел протолкнуть текст отречения в главный большевистский орган газету «Правду» и показать его самому Ленину. Ильич посмотрел на открытое письмо Питирима Александровича другими глазами, назвав его «чрезвычайно интересным человеческим документом». И сам написал по этому поводу статью «Ценные признания Питирима Сорокина». Большевистский вождь посчитал, что отречение члена Учредительного собрания вовсе не случайность, а «признак поворота целого класса, всей мелкобуржуазной демократии».
После таких высоких оценок самого Ленина отношение чекистов к Питириму Александровичу повернулось на 180 градусов. Его накормили, снабдили чистой одеждой и в международном спальном вагоне доставили в Москву, на Лубянку, где выдали документы и выпустили на волю. Спустя несколько дней вместе с женой Леной он вернулся в голодный, холодный и запустевший Петроград.
Через три года Сорокин и Зиедонис вновь встретились, на этот раз в Москве. И если в великоустюжских лесах Федор-Абрам в относительно новеньком френче выглядел вполне прилично, а вот обросший и обшарпанный Питирим более походил на нелюдимого отшельника, то теперь было все наоборот. Гладко выбритый Сорокин в профессорском пенсне и аккуратно вычищенном пиджаке смотрелся, как нормальный русский интеллигент. А вот член военного совета Народно-революционной армии Дальневосточной республики товарищ Зиедонис, заросший щетиной, в протертой чуть ли не до дыр серой шинели и помятой фуражке с потускневшей звездочкой был похож на разведчика, вернувшегося с рейда по тылам противника. Что, в общем-то, было почти правдой.
Сорокин, обладавший охотничьим нюхом не хуже Зиедониса, разыскал его в хаосе кабинетов помпезного здания бывшей усадьбы Апраксиных, где разместился Народный комиссариат по военным делам РСФСР. Федор-Абрам явился в столицу, чтобы доложить товарищу Троцкому о пленении в Монгольских степях барона фон Унгерна[xxv]. Это совершила группа Маркуса, сумевшая веселящими шанями и веселящими газами совершенно рассорить возглавляемую бароном бригаду со своим командиром и прикончить его правую руку генерала Резухина. После чего брошенный своими Унгерн упал прямо в руки красного партизана Щетинкина, коему и досталась слава пленителя белого барона. Впрочем, какую-то часть лавров заслужил и координатор этого военного действа Зиедонис, которого называли не иначе, как Победителем. А Маркус и его уламы получили, наконец, возможность вернуться в свою подземную Родину.
Вообще-то, комплиментарная кличка Победитель прилипла к Зиедонису раньше. Наркомвоенмор Троцкий лично распоряжался его судьбой, направляя на те или иные участки разгулявшейся гражданской войны – либо в дивизию в качестве комиссара, либо как члена военного совета фронта. Как правило, в наиболее уязвимые места. И – странное дело – ситуация на этом участке чудом исправлялась. Лев Давыдович догадывался, что дело не обходится без неведомой силы, представителем которой был таинственный господин Календер. Но никогда он об этом с Зиедонисом не заговаривал. После победы над Врангелем Троцкий, решив, что больше помощь неведомых сил не понадобится, тайно приказал сотрудникам своего разведывательного управления отыскать Календера и расстрелять без суда и следствия. Наркомвоенмор опасался, что правда всплывет и дискредитирует триумф Рабоче-крестьянской Красной армии. Однако вскоре сам же отменил приказ, решив отложить это дело до полной победы над белыми на Дальнем Востоке. Зиедонису, отправляя его за три девять земель, разумеется, он ничего про свой тайный приказ не сказал.
ххх
Питирим Александрович, отыскав Федора-Абрама, сразу после «Здравствуй!» выложил без обиняков:
– Федя, ты должен их вытащить из пасти ЧК.
Зиедонис нахмурился. Последние три года его буквально заваливали подобного рода просьбами. Машина красного террора работала исправно, под маховик попадали крестьяне, учителя, рабочие, студенты и гимназисты. И в какую бы точку гражданской войны судьба не заносила Федора-Абрама, всегда за ним следовал слух, будто комиссар Зиедонис – добрый и всемогущий человек. И с просьбами о спасение к нему обращались родственники и друзья даже ярых черносотенцев и монархистов. С какого-то момента он принялся решительно отказывать, но это не помогало.
– Здравствуй, Питирим, – со вздохом ответил Зиедонис. – Кого я еще должен вытащить из пасти ЧК?
– Сашу Лукина и Аню.
Федор-Абрам вздрогнул, поняв, что на этот раз отказать он не сможет. С Лукиным его политические взгляды существенно расходились, но Зиедонис все равно испытывал к своему бывшему товарищу по кэртасу сильнейшую симпатию. А, главное, красный комиссар был убежден, что ум честного историка очень пригодится новой власти.
– За что его взяли? – коротко поинтересовался Федор-Абрам.
– Чекисты придумали бессмысленный и беспощадный заговор петроградских профессоров во главе с географом Таганцевым, – разгорячился Сорокин. – Смех, да и только. Профессора – заговорщики! Что может быть нелепее? Саша Лукин и его жена Аня попали под раздачу. Я бы хотел, чтобы ты всех так называемых заговорщиков вытащил, но если не получится, то хотя бы супругов Лукиных. Ты же их помнишь. Саша вместе с нами ездил в Усть-Сысольск. Потом вы еще с Каллистратом Фалалеевичем ходили на Печору. Саша был с вами. Его жена Аня – это Анна Оплеснина…
– Помню, конечно. Где сейчас Жаков?
– Где-то в Эстонии. Или в Латвии. Уехал вместе с молодой женой. Наверное, не вернется.
Разговаривая, Сорокин и Зиедонис вышли на оживленную Арбатскую площадь, прошли к Пречистенскому бульвару и отыскали местечко на заляпанной грязью скамейке возле памятника Гоголю. Мрачная фигура великого мистика, как бы прислонившегося к грубой глыбе камня, глядела на эту странную пару, но они не обращали на окаменевшего классика никакого внимания.

Питирим Александрович рассказал, что уже встречался по поводу Лукина и Таганцева с Левой Караханом. Его не без труда Сорокин отыскал в бывшем доходном доме на Кузнецком мосту.[xxvi] Но его к тому времени уже назначили полпредом в Польше. В Москве он оказался случайно – приехал за новыми предписаниями в отношении Пилсудского[xxvii], а потому заниматься делом Таганцева и Лукина он не мог и посоветовал обратиться к Зиедонису, который, по его сведениям, должен был со дня на день вернуться из Монголии. Профессор Сорокин так и сделал.
У Зиедониса со временем дело обстояло куда как лучше. Свою работу в Забайкалье, Дальнем Востоке и Монголии он исполнил и теперь ждал нового назначения. И он решил выпавшую на его долю свободу использовать, чтобы выручить Сашу и Аню – в их невиновности он не сомневался. Решить судьбу супругов мог бы товарищ Дзержинский, но он помимо руководства ВЧК возглавил еще и наркомат путей сообщения и сейчас железными дорогами занимался более, чем мнимыми и явными врагами советской власти. Тогда Федор-Абрам направился к его заместителю Иосифу Уншлихту.
Год назад вместе с Юзефом, а именно так на самом деле звучало имя Уншлихта, они для борьбы с поляками создали на Западном фронте нелегальную военную организацию, о которой не знал даже Тухачевский. Она устраивала весьма эффективные диверсии в тылу противника, а состояла группа большей частью из уламов, о чем не догадывался и сам Уншлихт. Юзеф был уверен, что с панской Польшей на ее территории бьются сочувствующие большевикам поляки и малороссы. Успешная деятельность НВО позволила Тухачевскому подойти к Варшаве, и он мог бы без особых проблем взять ее, но Троцкий отозвал Зиедониса с Западного фронта и перебросил в Забайкалье. Лишившись координатора, группки посланцев нижнего мира потеряли всякую ориентацию, и произошло то, что поляки назвали «Чудом на Висле». Из пяти армий Западного фронта четыре были наголову разбиты поляками.
Юзеф с восторгом встретил боевого товарища в своем кабинете на Большой Лубянке. Они обнялись и по случаю выпили по рюмочке припасенной рачительным Уншлихтом старой «Смирновской» водки. Судьбой Лукина и его супруги он пообещал заняться сразу, как только разделается с документами по новой структуре внутри ВЧК. Юзеф намеревался создать специальное бюро по ведению активной разведки, которое будет заниматься дезинформацией противника. Зиедонису он тут же предложил его возглавить. Федор-Абрам поблагодарил за доверие и обещал подумать.
Покинув Уншлихта и понимая, что дело с вызволением Лукиных может затянуться, Зиедонис отыскал Никодимуса попросил ему самому вытащить их из застенков. Но знатный чэрыдей с огорчением признался, что ничего сделать не может. Лукин по своей воле покинул кэртас, иначе говоря, предал их.
С Уншлихтом Федор-Абрам второй раз встретился примерно через неделю. Поздоровавшись, Юзеф снял с глаз пенсне, дыхнул на них большим ртом, над которым торчали маленькие усики, протер стекла носовым платком, достал из ящика стола номер «Петроградской правды» и положил перед Зиедонисом. Там, на третьей странице содержался список расстрелянных 24 августа активных участников заговора в Петрограде. Федору-Абраму бросилось в глаза, что под номером 30 значился знаменитый поэт Николай Гумилев, но красными чернилами были подчеркнуты имена Александра Лукина и Анны Лукиной.
Юзеф клялся, что отправил запрос в Петроградский ЧК сразу после встречи с Зиедонисом, но пока шла бумажная волокита, всех активных участников заговора успели приговорить и казнить. Уншлихт ничего поделать не мог.
На предложение Юзефа выпить водочки и помянуть друзей Федора Моисеевича, Зиедонис ответил отказом. Он коротко поблагодарил Уншлихта за попытку и ушел. Переходить на работу в ВЧК Федор-Абрам отказался. Ему до смерти надоели выносимые этим органом расстрельные приговоры, тем более что он уже получил новое назначение в Центральную комиссию помощи голодающим. В регионах Южного Урала и Поволжья случилась засуха, приведшая к невиданному голоду. И теперь комиссии предстояло выяснить его размеры, а также найти средства, чтобы как-то помочь голодающим.
Странное дело, размышлял, выйдя из здания ВЧК, из всех членов кэртаса только он, Федор-Абрам, был готов и даже намерен отдать свою жизнь за благое дело. Но именно он-то и остался жить. Почему судьба хранит его?
В таком сумеречном настроение он пришел в тот день домой – в свою квартиру в Романовом переулке, где жил вместе с женой Риной и маленьким сыном Алешей. Ничего не говоря, он снял сапоги и гимнастерку, босыми ногами подошел к колыбельке, внимательно посмотрел на мирно посапывающего малыша и сам молча ответил на заданный ранее вопрос: он теперь семейный человек, а потому вынесенный самому себе приговор следует отменить. Подошла Рина в легком халате, он впервые за многие месяцы нежно обнял ее, прижал к себе и поцеловал в щеку, слегка уколов своей щетиной. Ему хотелось и дальше ласкать супругу, но помешала внезапная боль в голове. Он отпустил Рину, прошел на кухню, сел за стол и принялся старательно тереть виски. Одна мысль стучала в голове: он должен навсегда покинуть кэртас и порвать все связи с подземным миром.
Зашла Рина и молча налила в тарелку еще не успевший остыть борщ. Увидев, что мужу плохо, достала из буфета графин с водкой, поставила рядом с тарелкой рюмку, которую тут же наполнила. Зиедонис одним махом опрокинул алкогольную жидкость в рот, заел ее борщем и неожиданно схватил за талию жену, одним рывком отодвинулся от стола вместе со стулом, усадил Рину на колени, впился в нее губами и почувствовал, как боль покинула его голову. Никогда еще ему не было так легко и приятно.
ххх
На следующий день он встретился с Питиримом Сорокиным. Ничего не понадобилось объяснять – Пит уже прочитал в газете о расстреле Лукиных. Он только сообщил Зиедонису, что у этой пары остался сиротой сын Олег. Его сразу после ареста забрала Анина сестра Зина и увезла в Усть-Сысольск. Выходит, судьба не так уж благосклонна к отцам малышей.
Узнав о новом назначении Федора-Абрама, Питирим Александрович попросил и его зачислить в комиссию, чтобы исследовать голод холодным разумом социолога. Зиедонис пообещал похлопотать и свое обещание исполнил. Они вместе отправились в экспедицию по охваченным голодом районам Самарской и Саратовской губерний.
То, что они увидели, превзошло все ужасы гражданской войны. В деревнях и селах стояли опустевшие избы без крыш и с дырами в тех местах, где раньше были окна и двери. Соломенные крыши давно были съедены, как и все животные. Не было в тех деревнях не только коров и овец, но даже кошек, собак и ворон. Кое-где валялись мертвые тела, и над всеми этими селеньями царила мертвая тишина. Попадались и живые, вернее, полуживые. А еще вернее – обтянутые кожей, дрожащие от холода скелеты. Участники экспедиции делились с ними прихваченными в дорогу продуктами, но, понятное дело, всех накормить они не могли.
Зиедонис как-то в сердцах выругался: «Будь проклята засуха, будь проклят неурожай!», на что Сорокин ответил: «Неурожай – от Бога, голод – от людей». Он почти сразу понял то, что приходило в голову и красному комиссару, но тот гнал эти мысли, а Питирим Александрович мог говорить прямо, без утайки. Причина голода не столько в засухе, сколько в большевистской политике ограбления крестьянства.
По возвращению в Петроград Сорокин написал книгу о влиянии голода на человеческое поведение и социальную организацию. Посмотреть на голодающих холодными глазами ученого не удалось. Книга получилось хлесткой, хотя и вполне научной. Новой власти она не понравилась. И однажды Лев Михайлович Карахан сообщил по секрету Зиедонису, что над их общим другом опять нависла угроза ареста.
ххх
К лету 1922 года Карахан вернулся из Польши и был поставлен заведующим восточным отделом Наркомата по иностранным делам. Зиедонису, чья деятельность в Помголе завершилась, он предложил должность своего заместителя. Федор-Абрам не стал отказываться. Пора было искать себя в мирной жизни, а на новом посту мог бы очень даже пригодиться опыт службы в Монголии.
На этот раз спасение Питирима Сорокина не потребовало хитроумных планов. Советская власть не собиралась его ни расстреливать, ни содержать за решеткой. Еще в мае Ленин предложил в отношении противников советской власти применять не смертную казнь, а высылку за границу. Троцкий с ним согласился: расстреливать их нет повода, а терпеть невозможно. Составили список из 225 человек, в который попал и Питирим Александрович.
Карахан и Зиедонис распредели роли так: Лев Михайлович оформляет на имя Пита и его жены Елены заграничные паспорта, а Федор Моисеевич достает им билеты на поезд до Риги, приглашает Сорокина с супругой в Москву и отправляет их дальний путь.

И вот теперь Федор-Абрам, Пит и Лена стояли на платформе Виндавского вокзала[xxviii] и не знали, что им еще сказать на прощании. Вокруг них шумел перрон, но это был совсем другой шум, чем тот, что охватывал вокзал в прежние годы, начиная с 1914-го. В том шуме сливались воедино плачи, крики, звучание гармошек, смех и паровозные гудки. С этого перрона уходили эшелоны на фронты сначала мировой бойни, а затем бойни гражданской. Нынешний шум был мирным. Пассажиры и провожающие прощались друг с другом, пыхтел в ожидании отправления паровоз.
– Что ж ты молчишь, Федя? – вновь попробовал заговорить Питирим Сорокин.
А что Зиедонис мог сказать? Он понимал только то, что утекает из России часть его самого. Какой-то важный этап его жизни завершается окончательно. Его родина вошла в состав чужой ему Румынии. Подземной стране он больше не подчиняется, а сам из красного комиссара превратился в советского чиновника и семьянина. Да еще Лена Баратынская, теперь уже Сорокина, которая когда-то так ему нравилась, уезжает навсегда со своим мужем.
Тягостное молчание прервал выскочивший из тяжелых вокзальных дверей Карахан. Запыхавшись, он подошел к троице, обнялся с Питиримом Александровичем, галантно поцеловал руку Елены и поздоровался Зиедонисом.
– Уф, еле успел, – проговорил Лев Михайлович. – Простите, друзья, проклятые дела! Но не простительно было бы с моей стороны вас не проводить.
– Спасибо тебе Лева и тебе Федя за все, что вы для нас сделали! – ответила на приветствие Елена Петровна. – Без вас мы бы пропали.
Карахан хотел было сказать, что это был его долг, что он рад услужить такой красивой женщине и такому талантливому ученому, но Сорокин его перебил:
– А вот скажите, господа-товарищи, вы действительно верите, что строите коммунистическое общество? Что вам удастся превратить Россию, а потом весь мир в земной рай?
Зиедонис замялся. Он сам не понимал, во что верить. Полтора года в стране бушует НЭП, а это явный шаг назад. Получается, что лишними были и Октябрь, и разгон Учредительного собрания, и Гражданская война.
– Нет, Пит, не будет никакого земного рая, – с горькой ухмылкой произнес Карахан.
– То есть ты готов признать, что ваш эксперимент провалился, – продолжал Питирим Александрович. – Вы решили всего лишь восстановить примитивное буржуазное общество?
Карахан молча кивнул.
– Тогда зачем вы высылаете меня и других ученых? Ученые прежнему социальному строю помехой не были.
Лев Михайлович немного помолчал, а затем все же нашел ответ:
– Понимаешь, Пит, сейчас в России происходят как бы два процесса. Первый – это восстановление того самого буржуазного общества. А второй – соединение того, что, на первый взгляд несоединимо – приспособление к буржуазному строю Советской власти. Первый процесс идет быстрее, что создает нам существованию угрозу. А вы это только ускоряете. Поэтому мы и вынуждены вас временно выслать. Но, думаю, через два-три года пригласим вас назад.
Гудок паровоза призвал пассажиров срочно занять свои места. Люди принялись спешно заполнять вагоны. Елена Петровна пожатиями рук попрощалась с Караханом и Зиедонисом, Питирим Александрович легонько подтолкнул ее к дверям, а сам, прежде чем зайти, схватился за поручни, обернулся и бросил на прощание:
– Спасибо! Я очень надеюсь вернуться в свою страну без вашего любезного приглашения.
Вагоны противно скрипнули, и поезд потихоньку набрал ход. Часть провожающих какое-то время шла по ходу состава, что-то крича и помахивая руками. Карахан и Зиедонис стояли на месте, как два истукана. Когда поезд скрылся из виду, они, не говоря ни слова, повернулись и пошли прочь через вокзал и вышли на площадь Крестовской Заставы, где их поджидал черный наркомовский «Бьюик».
Соратники удобно устроились на заднем сидении, и старенький автомобиль, фыркая, резво покатил по Первой Мещанской по направлению к Кузнецкому мосту. Зиедонис глядел на убегающую назад дорогу, на остающихся где-то позади случайных прохожих и думал о том, что самое правильное, что он сделал за последнее время, это оборвал связь с подземным миром. Не нужна ему больше Уламкола, и он ничуть не жалеет, что так ни разу и не увидел ее правителя Кора.
О чем сожалел Кор
То, что на этот раз происходило в мутасе, видела вся Уламкола. Каким бы ни был огромным зал, он не мог, по большому счету, сплотить воедино всех жителей подземной страны, поскольку собирал только лучших из них. Но мудрые «прометеевцы» сумели все сектора и этажи снабдить тем, что оламы называют экранами, а они сами именовали словом «сайод». Глядя в них, даже самые незаметные уламы приобщались к тому действу, что разворачивалось в мутасе.
Сегодняшнее представление обещало превзойти все, что было доныне. Но не масштабностью спектакля, который предстояло разыграть группой «Ворсантор», а грандиозностью предстоящего события. Поэтому зал гудел с какой-то особой торжественностью, а когда музыканты рожками и колотушками сыграли нечто весьма величественное, и зажегся большой сайод, не только мутас, вся Уламкола, затаила дыхание.
Причудливую мелодию перебили звуки, коих уламы никогда не слышали. Так звучали разрывы снарядов, выстрелы винтовок, непонятные крики «Ура!» и стоны умирающих. Экран показывал гражданскую войну русских оламов во всей ее красе. А у мирных жителей тихой и спокойной Уламколы стыла от ужаса кровь. Они с трудом осознавали, что все это не иллюзия, демонстрируемая сайодом, а реальность, о которой они ничего не знали.
Чудовищные звуки немного утихли, и спокойный голос одного из «ворсанторовцев» пояснил, что весь этот кошмар творили безмозглые оламы у себя наверху. Они привыкли убивать друг друга, но на этот раз в дело вмешались самые отчаянные чэрыди. Нет не для того, чтобы помочь этим выродкам уничтожать друг друга. У них была высокая цель – отомстить за поругание наших предков и упразднить многократно проклятое учение, которое проповедовал всеми ненавистный Степан Храп.
На этих словах на экране возникла захудалая церквушка, которая как по волшебству разлетелась на мелкие кусочки. Ее сменил большой белесый храм с разноцветными куполами, из дверей которого бесцветные оламы в странных головных уборах с маленькими и большими звездами выносят деревянные разрисованные доски, именуемые иконами. Все это предается огню, а с рядом стоящего, похожего на столб здания с таким же, как у храма крестом на верхушке, сбрасывают большой ударный инструмент, называемый колоколом.
От этого зрелища сидящие в зале уламы пришли в сильное возбуждение и принялись вновь радостно гудеть, хлопать себя по коленкам, а соседей по плечу. И в этот момент голос объявил, что к жителям Уламколы обратится сам правитель Кор.
Белесые глаза уламов округлились, а они сами замерли в ожидании. Такого не случалось ни разу за всю историю подземной страны. Впрочем, оно и не могло случиться, пока «прометеевцы» не сотворили сайод по всем этажам и секторам.
И вот чудо свершилось. На экране появился тот, кого уламы знали только по изображениям на стенах и по фигуркам, которые можно было запросто уплетать, запивая суром. Правитель с длиннющими рыжими волосами и такой же длиннющей рыжей бородой смотрел на подданных своего царства и казалось, что каждому заглядывает в душу.
Какое-то время Кор молчал, поглаживая бороду, а затем отринул правой рукой волосы и заговорил немного приторным голоском:
– Уламы, дорогие мои уламы! Вот и настал великий день, о котором мы даже боялись мечтать. Хотя мы все этого хотели. Очень хотели. И это сбылось! Наш Омоль с нашей помощью победил Христа.
Услышав это, уламы принялись со слезами счастья обнимать и целовать другу друга, обмениваясь таким образом энергетическими полями, гудеть, хлопать себя по коленкам. Правитель между тем продолжал говорить:
– У оламов есть такое непонятное слово «империя». Оно означает очень сильную страну, которой никто не страшен, но ее боятся другие. Однако одну такую империю мы, маленькая мирная страна, разрушили. И теперь мы сами стали тем, что они называют «империей». В нашем языке такого слова пока не было. Но с сегодняшнего дня оно будет. Это слово – «ыдканлу». То есть империя, если по-оламски. Мы – самая великая ыдканлу в мире. Нас там наверху не знают, но уже боятся. И правильно делают.
Уламы мгновенно умолкли, боясь пропустить хоть одно слово, сказанное Кором. Они думали, что он их тоже видит и не ошибались. В своем помещение он много-много лет назад самолично установил несколько десятков сайодов, а «прометеевцы» расставили по этажам и секторам своего рода гляделки. И правитель мог теперь видеть, чем и как живет его страна, которую он сам только что провозгласил империей.
– Мы все эти годы жили во имя победы Омоля над Христом, трудились для ее приближения, – говорил Кор. – Но были среди нас и герои (это слово он произнес по-русски). Вы не знаете, кто это такие? Не мудрено. В них до сих пор не было никакой надобности. Мы тех, кто сумел для нас сделать то, что не под силам остальным, называли просто «морт». Отныне же, если улам во имя нашей ыдканлу проявил отвагу, рисковал своей жизнью, мы будем именовать его «повтом-морт». И теперь я назову наших первых повтом-мортов. Это, конечно, наши чэрыдеи. Они сражались там, под коварным солнцем, и рядом с не менее коварными оламами. Встаньте наши повтом-морты, пусть уламы на вас посмотрят.
Первым резво вскочил Адамус, за ним нехотя поднялись Амикус, Маркус и еще несколько сотен наблюдателей, вернувшихся в свою подземную родину после нескольких лет заварухи на поверхности Земли. Мутас отреагировал одобрительным гудением.
– Не все вернулись домой, в нашу великую Уламколу, – понизил голос правитель. – Многие остались лежать там. Мы никогда их не забудем. Оломы ставят памятники своим погибшим повтом-мортам. Мы же заведем отдельный мутас, где будут имена и изображения тех, кто погиб во имя ыдканлу. Он будет между этажами, чтобы туда мог прийти любой улам, и туда будут приводить детей, чтобы они росли такими, как наши герои.
Зал вновь одобрительно загудел, и Кор выдержал паузу, чтобы его подданные дали выход своим эмоциям. Затем опять заговорил:
– Имя «повтом-мортом» присваивается и нашему славному Никодимусу, который остается наверху затем, чтобы мы здесь, внизу, спали спокойно. Но героями были не только те, кто бился под солнцем. Я уже сказал, что все уламы трудились во имя победы. Но я особо выделю знатных тэдышей, таких как Тугай и Тунныр, юрадысь Таракутто и юрась Гуддим. Они тоже заслужили того, чтобы их именовали «повтом-моратами».
Опять раздалось одобрительное гудение, после чего юрла в завершение речи дал слово Гуддиму. Новоявленный герой вскочил со своего места и оказался рядом с экраном. Повернувшись лицом к залу, он торжественно произнес:
– Я счастлив получить столь высокую оценку моего труда. Но я еще более счастлив сообщить уламам единодушное решение вчерашнего заседания Ыджика. Управлять ыдканлу может только улам, наделенный особой божественной силой. А потому с сегодняшнего дня наш правитель Кор именуется как Вичкор.
Гуддим не стал уточнять, что присвоение титула Божественного пришлось не всем членам Большого совета по душе. Промолчал и ничего сказал соправитель Майбыр. Его молчание было расценено как знак несогласия. И после официального объявления юрась промолчал, но в общем одобрительном гудении этого никто не заметил. А Гуддим даже не посмотрел в сторону Майбыра и сидящих на первом ряду рядом с ним его дочери Райды, ее мужа Тугая и их десятилетнего сыночка Спиру. Преданный Кору юрась глядел на зал, понимая, что впервые его видит вся великая Уламкола. И с радостью на сердце он объявил сегодняшний день Великим праздником, что на языке уламов звучит как Ыджит гаж. Это означало, что на один день все дела надо отложить в сторону, а вместо этого посмотреть веселое представление группы «Ворсантор», высмеивающее тупость оламов и их нелепую веру в одного Бога, а затем вволю поедать веселящие шани, танцевать и петь, не зная удержу.
ххх
В тот вечер только два высокопоставленных олама не предавались веселью – Божественный правитель Кор и его соправитель Майбыр. Они сидели друг против друга в самом нижнем сернет-лэбе, куда входить могли только юрла и юраси. На стенах этого темного помещения не было рисунков, дабы ничего не отвлекало правителя и соправителя от важных дел, а, главное, не мешало получать энергию самого Омоля.
– Ты, Майбыр, надеюсь, слышал про обычай японских оломов делать сеправос, – говорил правитель.
– Может и слышал, Кор, но память моя стала некрепкой.
– Жаль, а то я хотел бы тебе предложить сделать это самому.
– В чем же я должен поклясться? – спросил Майбыр, знавший лишь то, что «сеправос» означает клятва, а слово «сеппука» ему нигде не встречалось.
– Клясться ни в чем не надо. Японские оламы в знак преданности своему Божественному правителю вскрывают себе ножом животы. Конечно, лишь только в том случае, если они в чем-то с правителем не согласны. А ты ведь был не согласен со мной, не так ли?
– То есть я должен ножом вскрыть свой живот? – мрачно предположил соправитель.
Кор вместо ответа засмеялся, легко вскочил и, придерживая рыжую бороду, немного походил по комнате. Оказавшись в непосредственной близости от Майбыра, он наклонился и снизу вверх поглядел на его глаза.
– Не-ет, дорогой юрась, мы не такие жестокие, как оламы. Ты, Майбыр своими делами заслужил легкую смерть. И право самому ее принять и осуществить. Разве это не великая честь?
– Понимаю, ты теперь Вичкор, соправители тебе не нужны, – хрипло выдавил Майбыр. – Гуддиму тоже даруешь легкую смерть?
– А что? Это правильная мысль. Гуддим отправится вслед за тобой, но позже. Не будем его торопить, пусть насладится своим «героизмом». Вас обоих будет оплакивать вся Уламкола. И я какое-то время обойдусь без соправителей. А когда я состарюсь и буду нуждаться в верных помощниках, твое место займет твой внук Спиру. Замечательный мальчишка! Я твоей Райде недавно разрешил тайно ко мне спуститься вместе с малышом. И он мне очень понравился.
Майбыр молчал, пытаясь осмыслить услышанное. Смерти он не боялся – возраст такой, что уже пора. Вариант устроить ее самому себе, а еще и в легком виде, в общем, неплох. Но что-то скребло в глубине его души. То ли естественный страх перед неизведанным более глубоким подземным миром, куда ему предстоит отправиться. А может опасения за будущее Уламколы?
– То есть у тебя потом будет один соправитель, мой внук? – спросил Майбыр, пытаясь унять внезапно охватившую его дрожь.
– Нет-нет. Одного соправителя иметь опасно. Он может захотеть поскорее занять его место. В нашей истории такого не было, а вот у оламов – сколько угодно, – принялся рассуждать Кор, вернувшись на свое место. – Но я и это предусмотрел. Не ведаю, знаешь ты или нет, но тэдыш Икета недавно родила. Да-да, от Гуддима. Они скрыли от всех, что прошли обряд омовения, а потому последнее их соитие оказалось вовсе не бесплодным. Но разве от Божественного правителя что-то можно скрыть? Мальчишку назвали Гуленем. Вполне подходящее имечко для будущего соправителя. А! Как ты думаешь?
Майбыр ничего не ответил. Он внезапно осознал, что вся его жизнь, посвященная драгоценной Уламколе, не имела смысла. Все, что он делал для подземной страны, будет похоронено вместе с ним.
– Как ты объяснишь уламам мою смерть? Поведаешь, что предложил мне самому умереть, и я согласился?
– Что ты, Майбыр, такого нельзя никому знать! Мы оповестим нашу империю, что ты умер от старости. А когда придет черед Гуддиму, что-нибудь придумаем.
– А как же быть с тем, что Божественный Льюис завещал нам, правителям и соправителям, говорить народу правду и только правду?
– Майбыр, дорогой, ты же ничего не понял, – развел руками Кор. – Я же теперь сам стал Божественным. И могу творить новые заветы. И мой завет будет таким: сверху вниз должна идти правда и только правда, а снизу вверх – только та правда, которая, как мы сами решим, нужна нам, нашей империи. Всю правду уламам знать не обязательно, она может подорвать доверие к правителям. Наша Уламкола, даже став могущественной ыдканлой, остается очень уж хрупким организмом. Малейший сбой – и она рассыплется. И только нам, правителям, дано ее сберечь. И мы будем ее хранить, как только сможем.
– Мы – это кто?
– Мы это – я, дорогой Майбыр. Со вчерашнего дня я равен Богу, а потому не могу быть одним в одном лице. Я один во всех лицах всех уламов. И ты должен…
Майбыр не стал дослушивать излияния Кора. Он тяжело поднялся и перебил правителя вопросом:
– Что я должен сделать, чтобы умереть?
– Ничего особенного. Поешь перед сном шани, которые тебе принесут. Запей суром. Все как обычно. А утром ты не проснешься.
– Я все понял. Прощай!
Все-таки он молодец, подумал Кор. Как ни жаль, но такого честного, такого умного соправителя у меня уже не будет. В нем тоже есть нечто божественное. Но не такое как у меня. Во мне горит божественный огонь, а у Майбыра всего лишь божественная искра, которая так за всю его жизнь и не воспламенилась.
[i] Александр Шляпников (1885-1937гг.) – российский революционер, большевик с 1903 года.
[ii] Лев Каменев (Розенфельд) – 1883-1936гг.) – видный большевик, один из старейших соратников Ленина.
[iii] Ираклий Церетели (1881-1959гг.) – политический деятель России и Грузии, социал-демократ. В апреле 1917 года вошел в состав исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
[iv] Николай Чхеидзе (1864-1926гг.) – политический деятель России и Грузии, социал-демократ, первый председатель исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
[v] «Межрайонцы» – члены «Междурайонного комитета», ставящего своей задачей создание «единой РСДРП» путём примирения и объединения различных политических течений и фракционных группировок.
[vi] Константин Юренев (1988-1938гг.) – русский революционер, активный участник февральской революции. В апреле 1917 года член исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
[vii] Ольга Керенская (в девичестве Барановская) (1883-1975гг.) – супруга политического деятеля Александра Керенского.
[viii] Партия социалистов-революционеров к лету 1917 года начитывала около одного миллиона человек, объединенных в 436 организаций в 62 губерниях, на флотах и на фронтах действующей армии. Ее списки заняли первое место на выборах в местные органы власти в Петрограде и Москве.
[ix] Томаш Масарик (1850-1937гг.) – чешский социолог, и общественный деятель. В 1917 году один из лидеров движения за независимость Чехословакии, впоследствии первый президент Чехословацкой республики.
[x] Калики перехожие – русские странники, поющие духовные песни и былины.
[xi] Газета «Извѣстія Петроградскаго совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ» выходила с 28 февраля (13 марта) 1917 года.
[xii] Дмитрий Попов (1892-1921гг.) - балтийский матрос, начальник Боевого отряда ВЧК, активный участник восстания левых эсеров в Москве в 1918 году.
[xiii] Яков Блюмкин (1900-1929гг.) и Николай Андреев (1890-1919гг.) – члены партии левых эсеров, совершившие убийство немецкого посла графа Вильгельма Мирбаха с целью сорвать заключенный в марте 1918 года Брестский мирный договор с Центральными державами.
[xiv] Мартын Иванович Лацис (настоящее имя – Ян Фридрихович Судрабс, 1888-1938гг.) – большевик, в 1918 году заместитель председателя ВЧК.
[xv] Иоаким Иоакимович Вацетис (1873-1938гг.) – российский офицер, после Октябрьской революции перешел на сторону большевиков, с 13 апреля 1918 года — командир Латышской стрелковой дивизии.
[xvi] Янов день – один из самых популярных латышских праздников. В 1918 году отмечался 6 июля.
[xvii] КОМУЧ – Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания. Первое антибольшевистское правительство в период гражданской войны. Состоял большей частью из эсеров, действовал на территории, освобожденной с помощью чехословацкого легиона и сформировал Народную армию.
[xviii] Петр Зепалов (1892-1918гг.) – российский социолог и криминолог. Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1917 году был комиссаром губернской юстиции в Великом Устюге. Расстрелян чекистами 4 ноября 1918 года.
[xix] Союз возрождения России – возникшая в марте 1918 года в Москве широкая коалиция политических партий, противостоящих большевикам.
[xx] В 1918 году была образована Северо-Двинская губерния с центром в Великом Устюге.
[xxi] Сергей Нечаев (1847-1882гг.) – российский революционер, лидер организации «Народная расправа» и автор ее устава – так называемого Катехизиса революционера.
[xxii] Михаил Янышев (1884-1920гг.) – революционер, председатель Московского ревтрибунала, военный комиссар стрелковой дивизии на Южном фронте. Погиб в ходе штыковой атаки. Похоронен в Кремлевской стене. Его именем была названа Триумфальная площадь, переименованная в 1935 году в площадь Маяковского.
[xxiii] Вальпургиева ночь – по поверью, в ночь с 30 апреля на 1 мая происходит разгул нечистой силы, в Киеве ведьмы собираются на шабаш на Лысой горе. По одной из версий, Лысая гора находится рядом с Андреевским спуском, где жил Михаил Булгаков.
[xxiv] Речь идет о Сергее Булгакове (1871-1944гг.) – русском философе-богослове.
[xxv] Роман фон Унгерн-Штенберг (1886-1921гг.) – видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке, автор идеи реставрации империи Чингис-хана от Тихого океана до Каспия.
[xxvi] В Доходном доме Первого Российского страхового общества на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка с 1918 по 1952 гг. размещался Народный комиссариат по иностранным делам (с 1946 года — Министерство иностранных дел СССР).
[xxvii] Юзеф Пилсудский (1867-1935гг.) – польский военный, государственный и политический деятель, первый глава возрождённого Польского государства.
[xxviii] Ныне Рижский вокзал
Конец первой книги
Продолжение всё же следует



 EN
EN Старый сайт
Старый сайт
 Аимин Алексей
Аимин Алексей  Буторин Николай
Буторин Николай  Тубольцев Юрий
Тубольцев Юрий  Андерс Валерия
Андерс Валерия 